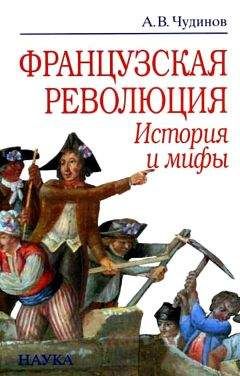Александр Гриценко - Антропология революции
Событие прежде всего является переворотом семантического свойства, переструктурирующим ситуацию или создающим новую структуру. Само по себе оно неуловимо и дает о себе знать лишь постфактум, когда новая ситуация уже налицо. Именно в этот момент событие постулируется как ее исток. Множество, которым является ситуация, «аксиоматически однородно»[41], утверждает Бадью, а событие — это всегда «расстояние между двумя разнородными множествами (l’écart de deux multipliers hétérogènes)»[42]. Событие не материально в той степени, в какой оно — чистый разрыв, расхождение между множествами.
Чрезвычайно важно также и то, что событие фиксируется в означающем, которое, собственно, и организует новое множество. Покуда Маркс не назвал пролетариат, пролетариат «не существовал», то есть находился ниже уровня ситуации, не был в ней представлен, был невидим. То же самое происходит и с иным означающим — «революцией». Пока революция не названа, имеется ряд событий — Генеральные штаты, Большой страх, Конвент, санкюлоты, гильотина и т. д., которые не создают ситуации. Революция и есть то означающее, которое создает вокруг события определенную констелляцию смысла, значащую тотальность. Означающее «революция», в конечном счете, и производит революцию как ситуацию. Бадью пишет: «…„Революция“ — это центральный термин (элемент) самой Революции; иными словами, способ, которым сознание эпохи — и ретроактивное вмешательство нашего сознания — фильтрует все место через одну из событийных квалификаций»[43].
Ощущение революционного хаоса (первая стадия революции) можно сопоставить со смутным ощущением «событийного места» — здесь ничто не сводимо к структурным единицам множества. Такое ощущение создает, например, хаотическое движение массы, которое по своему существу неопределимо[44]. Событие же трансформирует неопределенность «места» в определенность означающего. Именно тут и происходит интересующий меня переход от экзистенциального человека к человеку, претендующему на знание истины, каким является революционер. В момент события и происходит переход от неопределенного к символическому, основанному на сильных, структурных различиях. Явление «истины» делает необходимым удержание ситуации, ее фиксацию, проявляющуюся в «верности» событию. Именно в удержании события в верности ему конституируются субъективность и связанная с ней «этика верности». Человеческая природа у Бадью проявляет себя не столько в неопределенности ситуации, сколько в верности событию.
Но поскольку большое означающее события занимает место, до этого маркированное пустотой, верность событию не может до конца исключить пустоты из новой ситуации, хотя и скрывает его «деспотическим означающим». Это означающее фиксирует новую ситуацию, в которой постепенно созревает иное «событийное место», необнаружимое в ее контексте. Как только новое множество возникает, оно неизбежно создает новую зону вытесненной им неопределенности, в которой коренится новый событийный, семантический взрыв. Верность событию в таком контексте может стать причиной идеологической слепоты.
Хорошо известно, что после революций, после их почти мгновенного распада и исчезновения, после исчерпывания ситуаций, революция продолжает разыгрываться именно как верность событию, то есть — смыслу, ради которого революционеры и идут на смерть. Мы знаем, что именно во имя верности определенной констелляции смысла шли на смерть в сталинских застенках революционеры старшего поколения. Революция к этому времени сохранялась исключительно в виде смысловой структуры, своего рода мнемонического образа.
Чтобы понять революцию как прежде всего событие смысла, мне представляется целесообразным обратиться и к творчеству иного французского мыслителя — философа и социолога Анри Лефевра. Лефевр известен главным образом своими разработками понятия социального пространства и повседневной жизни, или, как выразились бы российские теоретики 1920-х годов, быта. Лефевр, пожалуй, глубже, чем кто бы то ни было, осознал связь революции с повседневностью.
Для Лефевра повседневность — это сфера отчуждения человека. Но сфера эта далеко не одномерна. С одной стороны, повседневность — это продукт отчужденных форм жизни: институций, идеологии, языка, культуры и т. д. С другой же стороны — это сфера неоформленного, спонтанного: «…бесформенное переливается через формы. Оно их избегает. Оно делает нечеткими их контуры»[45]. Поэтому повседневность — это сфера непрекращающейся борьбы между плоским, тривиальным и спонтанным, глубоким. Борьба эта разворачивается в некоем образовании, которое Лефевр называл «семантическим полем». «Семантическое поле» не обладает структурностью, в нем проявляются и исчезают «потенциальности» и «силы». Организовано это «поле» в виде различных знаковых слоев, накладывающихся друг на друга. Наиболее глубинный слой — это архаические символы, связанные с циклическими проявлениями существования, над символами имеется слой знаков — речи, письма. Над знаками располагается связанный с современной технологией слой сигналов, то есть инструкций и указаний. Сложность «семантического поля» повседневности заключается в нелинейных отношениях этих слоев: «Специфическая структура и динамизм семантического поля производят следующую несбалансированность, характерную для повседневности: с одной стороны, оно детерминировано символизмами, которые оно не в состоянии признать в качестве таковых и которые оно проживает, как если бы они были реальностью; с другой стороны, оно организовано сигнализацией, которую оно принимает за основные детерминирующие ее элементы»[46].
Противоречия существования невозможно осмыслить, они не поддаются описанию и не являют себя в повседневном. Единственный момент, когда эта неопределенная и многоуровневая магма поддается пониманию, — это революция. Революция для Лефевра — это время, когда происходит выявление скрытых в толще семантического поля символов: «Всякая революция уничтожает набор символов. Или иначе: в попытке уничтожить их она уничтожает саму себя. Она может лишь попытаться разрушить их, потому что, как мы теперь знаем, эти символы играют структурную, или „структурирующую“, роль, которая тем более эффективна, чем более они скрыты. В итоге, всякая революция делает невероятное усилие заместить старые символы, которые она уничтожала, новыми (почти всегда неизбежно политическими)»[47].
Революция, таким образом, для Лефевра — это уничтожение глубинной, и от того бессознательной, символической структуры, которая заменяется новыми и, если так можно выразиться, поверхностными символами (вроде «флага»). Но под этими символами, постепенно превращающимися в знаки и сигналы, вновь проступает сеть глубинных архаических символов, знаменующая собой крушение революции. В каком-то смысле то, что описывает Лефевр, напоминает модель Бадью. Здесь тоже имеются видимый и невидимый слои смысла. Невидимые символы похожи на «событийные места» Бадью и т. д. Но главное, что у обоих мыслителей принципиальную роль играют символы — «большие означающие».
Символ подробно обсуждался Лефевром в книге «Язык и общество». В этой книге философ критикует существующие модели языка, которые он разделяет на одномерные (чисто ассоциативный подход к языку) и двухмерные, к которым он относит структурную лингвистику, как она была сформирована Соссюром. Двухмерность структурной лингвистики выражается прежде всего в оппозиции «вертикальной» оси языка, парадигматики, селекции, метафорики и горизонтальной оси речевой практики, синтаксиса, смежности, метонимии. Эти две оси, по мнению Лефевра, не исчерпывают функционирования языка, так как, по существу, сводят семантику к двум аспектам, соответствующим двум языковым осям. Вертикальная ось имеет дело со значением (сигнификацией — signification), то есть с отношением означающего и означаемого, знака и референта, а горизонтальная, синтаксическая ось имеет дело с ценностью (valeur), то есть со способностью означающих сочетаться с другими означающими. По мнению Лефевра, смысл не может сводиться ни к словарному значению, ни к знаковой ценности. Поэтому он предлагает ввести в лингвистику третью — «социальную» — ось, которая соответствует измерению символа. Символ — это совокупность семиотических операций в различных ситуациях, совокупное отражение социальной практики человека в языке. Например, символическая фигура отца, символ отца, возникает из напластования различных ситуаций, он складывается из метафорической близости идеи корня, древа, вожака, пастыря и т. д. В этом смысле символ по своему смыслу гораздо шире значения.