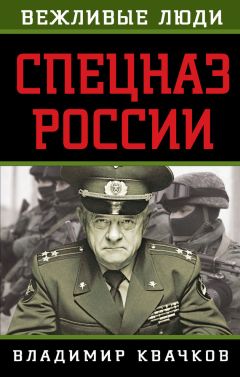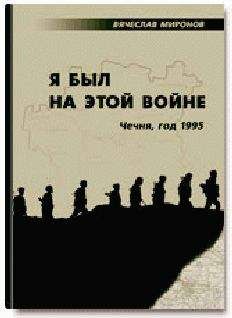Александр Блок - Том 6. Последние дни императорской власти. Статьи
И кто знает, что бы вышло из этого?
5Тому, кто ценит выше всего ясность понятий, чистоту языка, красоту образов, — лучше вовсе не брать в руки такого дневника. Искать в нем занимательного чтения было бы кощунством, оскорблением долгой и тяжелой жизни.
Язык автора — тот вульгарный жаргон, на котором говорит, однако, огромная часть южной русской интеллигенции. Умственное развитие автора — ниже среднего, так что о какой бы то ни было отчетливости понятий говорить не приходится. Что касается отношения к искусству, то у автора, судя по его запискам, было музыкальное дарование; во всех же остальных областях — полное отсутствие не только художественного развития, но и чутья.
Неряшливые и бесформенные записки эти — не книга; это — сырой матерьял и характернейший человеческий документ. Нельзя ни исправить, ни сократить повесть, бесцветную и однообразную, как русская провинциальная жизнь; среди сотни серых дней вдруг выдается один, непохожий на другие; но попробуйте вычеркнуть серое и оставить одни яркие дни: сейчас же и эти дни померкнут; совершенно так же, как в самой жизни.
Сознавая все эти убийственные недостатки дневника, я спрашивал себя при чтении: почему испытываешь волнение, перелистывая эти сотни наивных страниц, заполненных чудовищной безвкусицей и постоянными повторениями? — Такой безвкусицы не сочинишь; она может только родиться, притом именно в провинции, на юге России.
Когда читаешь записки девушки-гимназистки, проведшей детство в невежественной и захолустной среде, невольно вспоминается Гретхен. Читаешь несколько слов об отношении молодой женщины к собственному ребенку — и вдруг овеет как бы «древний ужас», воспоминание не нашей эры. На первый взгляд — это чистая патология, какое-то отвратительное извращение половой сферы. Но вчитываясь, начинаешь понимать, что за этим стоит и другое, что когда-то знали «мудрецы», а теперь знают — В.В. Розанов и безвестная молодая мать, не слыхавшая ни о каких мудрецах.
Читаешь утомительно однообразную повесть неразделенной любви — и за грудой обычных и даже пошлых слов чувствуешь рост телесной страсти, перерастающей себя и принимающей одухотворенные формы.
Наконец, читаешь о последних событиях в жизни автора, и вспоминаешь, что они привели к тому, о чем говорит одна фраза письма этой женщины ко мне: «Острота душевного состояния и слишком пониженное физическое самочувствие заставляют меня спешить ликвидировать свои дела». Читаешь и думаешь: отчего столь модные недавно описания любви к двоим и троим зараз были у наших литераторов малоубедительны, а часто — просто смешны? А вот эта женщина, не читавшая ни новых, ни старых литераторов, убедительно показывает, что такая двойная любовь действительно бывает. Не так важно это, как дальнейшее: его показывает уже не беспомощный автор дневника, а сама судьба говорит его устами: двойная любовь оканчивается необъяснимо просто и ужасно, кончается двумя обыкновенными смертями.
Литераторы приукрашали и присочиняли; автору записок — не до украшений, и ему не может прийти в голову, как можно что-нибудь сочинить; оттого и содрогаешься, читая о двух случайных смертях двух обыкновенных людей, гораздо более, чем над десятками талантливых истязаний над сверхчеловеками.
Холодный ужас житейской скуки, житейской «постепеновщины» способен дать людям — и несчастным и счастливым — часто гораздо больше, чем занимательная и красивая выдумка. И многие из нас предпочли бы непритязательный дневник бедной провинциалки — притязаниям и дерзновениям иных столичных Фаустов. Удивительно, что человек, выкинутый из жизни, лишенный того немногого, что было ему дорого на свете, остается на какой-то нравственной высоте. Эта женщина всю жизнь искала и продолжает искать Бога, а Бог был к ней, может быть, ближе, чем ко многим другим. Сквозь всю пошлость и весь ужас жизни ее красной нитью прошла нравственная чистота, своеобразная детскость; и это — вывод из жизни, в которой первую роль всегда играл пол, то есть, следовательно, из жизни урезанной, сокращенной, обезличенной; из той самой, которую, упиваясь, описывают Вербицкая и Арцыбашев — идолы современной литературы.
В дневнике есть еще описания случаев ясновидения и религиозных экстазов. Они занимательны, пожалуй, для психологов, для врачей, для тех, кто исследует «многообразие религиозного опыта»; но ценность всех этих частностей, пожалуй, сомнительна, слишком наивен автор; может быть, все это просто: жизнь сера, а человек (женщина особенно) хочет, чтобы во что бы то ни стало случалось необыкновенное, и случалось именно с ним. На него и «накатывает».
Что же? В конце концов в дневнике гораздо больше недостатков, чем достоинств; таков ведь скучный и неоспоримый вывод почти всякой человеческой жизни; особенно жизни тех, кто отроду к ней неприспособлен, когда нужда, обиды и несчастия преследуют всегда. Есть много таких людей в России, кроме составительницы этих записок; испепелили себя в погоне за каким-то огнем, который надеялись поймать голыми руками.
Вероятно, женщина, которая приходила ко мне бормотать об «определении состава души», уже умерла. Если и мается еще на свете это существо с этим именем и фамилией, то оно уже не похоже на ту; ко мне был принесен когда-то, во всяком случае, избыток отчаянья, последний крик долгого горя. И я, вспоминая всю эту жизнь целиком, вижу подобие какой-то бесформенной и однородной массы; точно желто-серый рассыпчатый камень-песчаник; но, мне кажется, в эту желтую массу плотно впились осколки неизвестных пород; они тускло поблескивают оттуда.
Освобожденные и отшлифованные рукою мастера (мастера жизни, конечно!), они могли бы заблестеть в венце новой культуры.
Такова ценность всякого искреннего «человеческого документа».
20 января 1912 — 20 апреля 1918
Исповедь язычника
Петербургская весна 1918 года и Великий пост.
Кому, кроме обывателя да бедного составителя календаря, тщетно пытающегося приспособить старых святых к новому стилю, придет в голову такое сочетание?
Не знаю, надолго ли, но русской церкви больше нет. Я и многие подобные мне лишены возможности скорбеть об этом потому, что церкви нет, но храмы не заперты и не заколочены; напротив, они набиты торгующими и продающими Христа, как давно уже не были набиты. Церковь умерла, а храм стал продолжением улицы. Двери открыты, посредине лежит мертвый Христос. Вокруг толпятся и шепчутся богомолки в мужских и женских платьях: они спекулируют; напротив, через улицу, кофейня; двери туда тоже открыты; там сидят за столиками люди с испитыми лицами и тусклыми глазами; это картежники, воры и убийцы; они тоже спекулируют. Спекулянты в церкви предают большевиков анафеме, а спекулянты в кофейне продают аннулированные займы; те и другие перемигиваются через улицу; они понимают друг друга.
В кофейню я еще зайду, а в церковь уже не пойду. Церковные мазурики для меня опаснее кофейных.
Но я — русский, а русские всегда ведь думают о церкви; мало кто совершенно равнодушен к ней; одни ее очень ненавидят, а другие любят; то и другое с болью.
И я тоже ходил когда-то в церковь. Правда, я выбирал время, когда церковь пуста, потому что обидно и оскорбительно присутствовать при звероголосовании нестриженых и озабоченных наживой людей. Но в пустой церкви мне удавалось иногда найти то, чего я напрасно искал в мире.
Теперь нет больше и пустой церкви.
Я очень давно не исповедался, а мне надо исповедаться. Одно из благодеяний революции заключается в том, что она пробуждает к жизни всего человека, если он идет к ней навстречу, она напрягает все его силы и открывает те пропасти сознания, которые были крепко закрыты.
Так и я вспомнил одну давнюю пору своей жизни, которая меня преследует и не дает мне покою. Я хотел бы принести покаяние в одном из грехов, который я совершил.
<2>Мама привела меня в гимназию; в первый раз в жизни из уютной и тихой семьи я попал в толпу гладко остриженных и громко кричащих мальчиков; мне было невыносимо страшно чего-то, я охотно убежал бы или спрятался куда-нибудь; но в дверях класса, хотя и открытых, мне чувствовалась непереходимая черта.
Меня посадили на первую парту, прямо перед кафедрой, которая была придвинута к ней вплотную и на которую с минуты на минуту должен был войти учитель латинского языка. Я чувствовал себя как петух, которому причертили клюв мелом к полу, и он так и остался в согнутом и неподвижном положении, не смея поднять голову. Парта полагалась к тому же на двух человек, а я сидел на ней третий, на первый раз, потому что в классе не хватило для меня места. Рядом со мной сидели незнакомые мне и недоверчиво оглядывающие меня мальчики. За дверями я чувствовал длинный коридор, потом большой рекреационный зал, потом еще какой-то переход за колоннами и широкую лестницу в два поворота; там где-то уже шел, приближаясь с каждой секундой, страшный учитель; если я побегу, он все равно поймает меня где-то там, вернет в класс, и будет еще хуже.