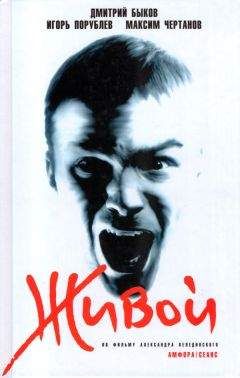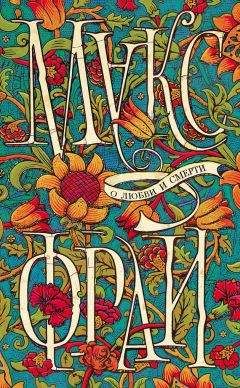Дмитрий Быков - Календарь. Разговоры о главном
Отдельный случай — рано наступившее молчание великих советских литераторов двадцатых годов: иссякание и явная компрометация «советского проекта» привели к тому, что честный писатель отстаивать его в прозе больше не мог, и одни стали сочинять нечто многотомно-историческое, о родной революции (как Федин), а другие попытались перейти на качественно иной уровень, но удалось это, кажется, одному Леонову в «Пирамиде» да Всеволоду Иванову в поздней фантастике. Шолохов в «Тихом Доне» (уверен, что эпопея принадлежит его перу) сам предсказал свое молчание: что добавить к этой безвыходно мрачной книге, где о Гражданской войне и о будущем расколотого народа сказано все? Почти никто из советских классиков не смог преодолеть слом эпохи: самый наглядный случай — Николай Тихонов. Он продолжал писать и в сороковые, и в пятидесятые, в основном привозил стихи из заграничных путешествий, но это было зрелище поучительное и трагическое, не приведи Господи. В последние годы жизни он влюбился и написал огромный лирический цикл — жуткий, похожий на приплясывающего старца: есть вещи, которые не возвращаются.
Что делать замолчавшему писателю, который не хочет повторять себя, а для нового рывка не накопил сил? Хемингуэй в этой ситуации предпочел самоубийство (которое, впрочем, планировал давно — наследственный этот соблазн витал над ним с детства), но это, сами понимаете, не лучший выход. Другие начинают экспериментировать с наркотиками — не будем называть имен, ибо таких ситуаций полно в текущей реальности, — но это, в сущности, лишь растянутое самоуничтожение. Есть лишь один вариант, о котором Александр Житинский рассказал в «Потерянном доме» — романе, после которого сам замолчал на двадцать лет, прерывая эту паузу лишь «Записками рок-дилетанта»: надо превратиться. Начать и прожить совершенно новую жизнь, набраться нового опыта, фактически уничтожив старый: так чудесно переродился Трифонов после «Студентов», а потом — еще раз — после «Утоления жажды», но не у всякого есть такой потенциал. Безоглядность этого перерождения — в удавшихся, состоявшихся вариантах — поражает, и Ромен Гари не просто так стал Эмилем Ажаром (многие думают, что ему просто хотелось вторую Гонкуровскую, — как же!). Есть основания предполагать, что и Сэлинджер не бросил писать, а продолжил литературную карьеру под именем Томаса Пинчона; как хотите, в этой версии что-то есть. Во всяком случае, не удивлюсь.
Почему-то во все времена писателю казалось чем-то позорным замолчать и покинуть литературу — хотя иногда оставаться в ней гораздо позорней; просто мы понимаем, что это очень хорошая, единственно значимая вещь, и потому уходить из нее — значит неизбежно спускаться ступенькой ниже. Однако многие при этом упускают из виду, что есть высшая форма существования в литературе — молчание. Оно больше любого текста, и сэлинджеровская репутация гения в огромной степени держится именно на этом молчании, а не на его ранних и, что греха таить, довольно ходульных на нынешний вкус текстах. Примерно таков же миф о Харпер Ли, дай Бог ей здоровья (хотя в Штатах многие полагают, что «Убить пересмешника» написал ее друг Капоте, там даже имеется зашифрованный автопортрет в виде Дилла). Если писатель не может больше писать, он может действовать по схеме, описанной Александром Архангельским применительно к Бабелю: «Сперва он оглушил нас Криком, теперь талантливо молчит». Есть эпохи, когда молчание — золото; и высшее мастерство писателя заключается в том, чтобы иссякание собственных сил или усталость от самого процесса (первый случай) выдать за второй или третий — нежелание участвовать в измельчавшем литературном процессе или соответствовать исподличавшейся эпохе.
Тогда молчание может стать великим жанром. В этом жанре успешней многих творит сегодня, например, Саша Соколов — и сильно подозреваю, что выход из этого состояния значительно повредит мифу. В конце концов, неписание — высшая форма литературы: на фоне этого все пишущие как-то особенно мелочны и суетливы. Так что из великого кризиса можно извлечь великую славу — было бы умение, но на то вы, господа, и писатели.
29 января
Родился А. П. Чехов (1860)
ДВА ЧЕХОВА
Чехов жил в исключительно смешное время. В том, что он писал смешные рассказы, нет ничего удивительного. Гомерически смешны были все: студенты, проститутки, либералы, министры, земские деятели, невинные девушки, дачники, учителя, священники, интеллигенты, крестьяне, судьи, злоумышленники. Так забавно бывает только в годы большого общественного отчаяния, после очередного общенародного облома, широкомасштабного крушения надежд и возвращения в прежнюю колею. К таким временам идеально применимы слова Мандельштама: «Зачем шутить? И без того все смешно». В такие времена на вопрос: «Кого вы больше любите — греков или турок?» — естественно отвечать: «Я люблю мармелад». Именно так и ответил Чехов, по воспоминаниям Горького, на вопрос ялтинской обывательницы.
Это было невыносимо пошлое время. На вопрос, что такое пошлость, ни один русский литератор еще не дал вразумительного ответа. Предложенный Набоковым английский аналог posh lust — жажда блеску, шику — остроумен, нет слов, но не исчерпывает проблемы. Мы ее сейчас тоже не исчерпаем, но попробуем. Пошлость — все, что человек делает ради самоуважения или чужого восхищения, все, что делается для соответствия образцу, а не по внутреннему побуждению. Когда все цели иллюзорны, а методы скомпрометированы, человеку остается одна задача — самоутверждаться в собственных или чужих глазах. В такие эпохи омерзительной пошлостью веет от всего — любовного объяснения, интеллигентского служения народу и даже от самого этого народа, несколько кокетничающего собственной темнотой. Никто же не мешает мужику жить менее зверской и темной жизнью. Но он живет вот такой, какая описана у Чехова в «Мужиках» или у Толстого в мрачной до садизма драме «Власть тьмы».
Чехов никогда не острит. Если острит, то в молодости и неудачно. Юмор — не в каламбурах, которых нет, вообще не в словах, которые сплошь нейтральны, не в нарочито комических ситуациях, которые опять же отсутствуют. Чехов смотрит, как люди нечто изображают из себя. Вся жизнь в его так называемой юмористической прозе напоминает творчество семьи Туркиных из «Ионыча». Любовь — сплошь и рядом как в романе Веры Иосифовны, начинающемся словами «Мороз крепчал». Искусство — исключительно в духе Ивана Петровича: «Пава, изобрази!». А если у молодой и чистой девушки заведутся идеалы и жажда деятельности, они удивительно похожи на фортепьянную игру Котика: «Она упрямо ударяла все по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются». Так же в «Доме с мезонином» строгая Лида будет диктовать крестьянской девочке про «кусочек сыру», и все ее служение народу в читательском сознании навеки соединится с этим кусочком сыру.
Вот вам тоже смешная история из другой пошлой эпохи. Однажды мы с друзьями в середине девяностых перепились и заспорили: есть у России будущее или нет? Разбудили культуролога, спавшего в салате, и задали этот же вопрос. Он беспомощно заморгал близорукими глазами и спросил: в онтологическим смысле или в гносеологическом?
Между тем вопрос задан совершенно справедливо. Так вот, чеховский юмор — онтологический. Он не в описаниях, не в авторской речи, не в традиционных комических приемах вообще: он в соотношении между тем, как люди живут, и тем, что они себе при этом представляют. В порядке иллюстрации приведем почти целиком крошечный, но очень показательный рассказ Чехова «Сущая правда», который характеризует авторскую манеру (и самого автора) с исчерпывающей полнотой.
«Шесть коллежских регистраторов и один не имеющий чина сидели в пригородной роще и пьянствовали.
Пьянство было шумное, но печальное и грустное. Не видно было ни улыбок, ни радостных телодвижений; не слышно было ни смеха, ни веселого говора… Пахло чем-то похоронным…
Не далее как неделю тому назад коллежский регистратор Канифолев, явившись в присутствие в пьяном виде, поскользнулся на чьем-то плевке, упал на стеклянный шкаф, разбил его и сам разбился. На другой же день после этого грехопадения он потерял две бумаги из дела № 2423. Мало этого… Он приходил в присутствие, имея в кармане порох и пистоны. Вообще же он ведет жизнь нетрезвую и буйную. Все было принято во внимание. Он слетел и теперь кушал прощальный обед.
— Вечная тебе память, Алеша! — говорили чиновники перед каждой рюмкой, обращаясь к Канифолеву. — Аминь тебе!
Канифолев, маленький человечек с длинным заплаканным лицом, после каждого подобного приветствия всхлипывал, стучал кулаком по столу и говорил: