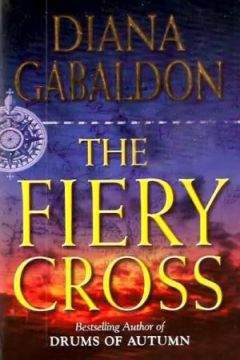Н. Денисов - Огненный крест
Еще одна русская судьба, печально закончившаяся вдали от родины, среди джунглей и молчаливых камней, что, как сказано уже, называются по-индейски – месэты...
Месэты стоят неподвижно от сотворения мира, крепкие – из гранита и базальта. Дождями миллионов лет унесено всё, что легче гранита и базальта.
Месэта Ауйан Тэпуй эрозией миллионов лет испещрена фантастическими фигурами, и куски гранита и базальта торчат, как клавиши рояля. На них и опустилась с небес авиэтка Джими Ангеля...
Да, плоскогорье Ауйан Тэпуй совсем не плоское.
И я увидел это место. Одни глыбы камня осели, другие приподнялись, а некоторые из-за эрозии минувших столетий приняли фантастические и причудливые формы. Если ещё добавить воображение и фантазию, то некоторые камни могут показаться фигурами невиданных предысторических животных и человеческих существ.
Я видел каменные арку, ворота, стоящие в воде и отражающиеся в ней. Они всегда – эти причудливые камни, клавиши и фигурки – стоят в воде. И в этой чистейшей воде, подобной которой нет нигде на земле, есть водоросли, которых тоже в иной природе не существует. Они сохранились здесь, в Гран Саване, с предысторических времен.
Обозревая диковинные виды, полные чудных красок, очертаний и форм, вспоминали лекции и беседы моего учителя по кадетскому корпусу, художника Хрисогонова, который и здесь, в Венесуэле, продолжал быть моим наставником. Приходя в его мастерскую, я слушал продолжение его уроков-бесед о магнетизме и самовнушении, о способах изготовления красок, о правилах камуфляжа в модерновых приемах изображения, о технике средневековых фресок... Дом Михаила Михайловича в Каракасе, как и тот дом в далекой Сербии, тоже полон набросков, рисунков, картин. Со стен смотрят на тебя цыганки в ярких нарядах, экзотичные турки среди песков древней Византии, а пышные букеты хризантем, сирени, царствующие на холстах, превратили мастерскую художника в чудесный сад. Михаилу Михайловичу много лет, но он уверен, что доживет до ста. И самым плодотворным в его жизни станет последнее, завершающее жизнь, десятилетие! А потом Господь призовет его, художника, в свою Мастерскую, где он найдет те краски, которые так настойчиво, не всегда успешно искал всю жизнь на земле, и тогда Бог отпустит ему и простит все прегрешения, совершенные за столетний земной срок...
Всё плоскогорье полно воды. Это, по сути, громадное озеро. Но и не озеро. Потому что – не сплошная вода. Озеро это нельзя назвать и болотом: нет грязи, ила, топкой массы, как бывает на болоте.
Вместо грязи – вода.
Вместо ила – камни.
И вся масса божественной влаги нашла выход из плоскогорья и падает самым высоким в мире водопадом. И вода, встречая сопротивление воздуха, рассыпается и до низа падает не массой воды водопада, а мелким дождем, водяной пылью.
Как и жизнь человеческая – на излёте, в конце своего пути, праведного и грустного, светлого и трагического пути, которому ты не изменил, не предал и самого себя, считая этот путь самым справедливым и честным.
О, Гран Савана!.. Как вознаграждение за пути и страдания земные!
ЭпилогИмператорский посох, по-испански – бастон дель эмпередор, высокий, напоминающий крепким и желтым своим стволом бамбук, украшенный яркими бутонами, всякое утро этот могучий цветок-растение напоминает мне о том, как «далеко я, далеко заброшен».
Впрочем, можно и не цитировать продолжение чудной есенинской строфы о том, что здесь «даже ближе кажется луна», потому что это на самом деле так: тропические луны по ночам висят отяжелённые, как бы набрякшие влагой испарений, среди непривычных для северного взора созвездий, они «огромней в сто раз», нежели луны наших заснеженных широт.
Но любоваться этими лунами хорошо в океане, с ночной палубы сухогруза и в штилевую погоду, скажем, где-нибудь на траверсе острова Шри-Ланка иль архипелага Зеленый Мыс вблизи африканских берегов. А здесь, в Каракасе, как во всяком городе, эти луны меньше всего заботят своей огромностью.
И меня, сибиряка, занимают в ночах Каракаса не луны вовсе, а, как я говорил уже на предыдущих страницах моих загранповествований, крики попугаев, ведь да – по утрам твари эти летают над улицами, словно у нас сибирские вороны иль сороки. И этот императорский посох занимает, который я приветствую всякий раз по утрам, обильно поливая водой из шланга, потом берусь за «шанцевые инструменты» добровольного уборщика обширного двора, выложенного кафельной плиткой, по ней так замечательно скользит тяжелая влажная швабра, напоминая о подзабытых сноровках моряка дальних плаваний.
– Оставь ты эту швабру, придёт человек и все сделает как надо! – всякое утро пытается отстранить меня от «старого профессионального занятия» Георгий Григорьевич Волков. Да не получается с этим запретом у хозяина «кинты Симы» – просторного русского дома-кинты, названного тоже по-русски в память о давно похороненной на югославской земле бабушке Симе.
– Сегодня ж последний раз швабрю! – говорю я. И отяжелённо проникаюсь ощущением, что, действительно, это последнее утро из чудно проведенных у русских венецуэльцев почти тридцати неповторимых, наверное, дней. И ловлю себя на том, что и сам за этот месяц перешел на местное русское произношение, принимая звук «ц» вместо привычного «с», как мы произносим в «далёкой России» – венесуэльцы.
И я уж уверился за этот праздник общения, за множество встреч с соотечественниками, разговоров, застолий, сотен километров горных и приморско-карибских дорог (русские венецуэльцы произносят – караибских), что они больше нас, живущих в Отечестве, РУССКИЕ.
На самой первой встрече в Каракасе, на братском ужине, я говорил, что не разделяю русскую историю, для меня она едина, хоть при князьях, царях, императорах, хоть при вождях. А поскольку я родился и вырос при вождях, то это моя жизнь, моя русская и советская история страны, в которой далеко не всё было плохо.
И вот последнее моё утро в Каракасе. И швабрю я в последний раз. Когда еще удастся? Да и удастся ли вообще встретиться? Георгий Григорьевич часто говорит мне – «это хорошо, успел приехать!» Он «чует», что там, в Отечестве, неладная ситуация и что скоро «всё может измениться».
Он говорил об этом, будучи у меня в гостях в Тюмени осенней порой 90-го. И потом в письмах повторял: «Спеши оформить визу!»
И вот теперь, в июньское утро 91-го, швабрю я в последний раз кафельную «палубу». И бравый цветок бастон дель эмпередор в своей бамбуковой стройности, как славный гренадер – одобрительно приветствует мои веселые утренние труды.
Потом, послеполуденной чередой, заезжают русские – попрощаться. Приносят сувениры, подарки. А мне хочется взять в дорожную сумку побольше редких книг, еще дореволюционных изданий, «которые всё равно скоро некому будет здесь читать... истаивает русская белая колония в Венецуэле...»
В последние минуточки перед посадкой в автомобиль возник известный в русском зарубежье художник Александр Германович Генералов. Принес две живописные картинки: «Вот, на память!» Он скромен, как и прежде при наших встречах-разговорах. И сейчас, похоже, не хочет «обременять» хозяев дома, скоро уходит.
Ах, знакомо: спешил Генералов, масло красок на картонках совсем еще не просохшее... Одинокая пальма на фоне желтой горы, на другой картонке – синее плоскогорье и синий-пресиний водопад. Понимаю: это ж заветное! И надпись: «Соотечественнику Николаю Денисову».
– Не довезешь, Коля! Всё перемажешь в чемодане. Отложи пока, – говорит Волков. – Шуре я пока ничего не скажу...
Потом был аэропорт имени Симона Боливара на кромке берега Карибского моря. Горячее солнце в тропическом зените. И зримая – но уже не по рассказам русских венецуэльцев, а воочию, под крылом лайнера авиакомпании «Виаса» – рыжая гора с картонными домиками бедноты на её склоне и пальмой, возможно, той самой, что встретила когда-то русских казаков-художников Генералова и Булавина: «Шурка! Ты хотел увидеть пальму и сразу вернуться в Европу? Смотри, вот она! Посмотрел? Так давай теперь поскорее спрячемся в трюм, чтоб нас увезли обратно...»
Обратной получалась только моя дорога.
И я еще не предполагаю, не ведаю, что в конце этой дороги свершится в Отечестве новобольшевисткий переворот, и я наконец сердцем, не только разумом, приму и пойму те далекие романтические порывы и устремления «белого молодогвардейца» Шурки Генералова – конкретно «бороться за Россию, когда позовёт Россия».
Но кто мы и что мы, русские в России, в конце двадцатого века, как и в начале его?.. Опять нереализованные патриотические всплески, опять вялая и бесконечная конформистская интеллигентская болтовня, апатия, томление, скука, ничегонеделание, как говаривал Бунин в «Окаянных днях». Опять – ожидание того, что «воспрянет русский мужичок и всё само собой образуется!»