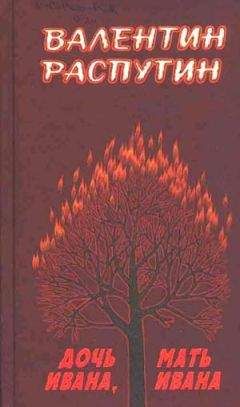Журнал Наш Современник - Журнал Наш Современник №11 (2003)
— Вот письмо матери, которая пишет, что убил не этот русский, который сидит в тюрьме, а другой парень, осетин, и тут замешана кровная месть.
Рекунков встрепенулся, а я почему-то протянул письмо Севруку. Тот взял его в горсть и, побледнев, проговорил:
— Это ничего не меняет. Речь идет о том, что вы бросаете тень на дружбу народов, на республику, на ее людей...
Я перебил:
— Что касается людей, то вот у меня письмо за подписью почти 500 человек, тружеников, старых коммунистов, учителей, о непорядках, нарушениях законности... Вот сотни писем с Северного Кавказа, говорящих о произволе и беззаконии.
Представитель Осетинского обкома в недоумении переводил глаза с Севрука на меня: что происходит? Севрук схватил и эти письма и скороговоркой закончил:
— С этим разберутся в админотделе, а решение, думаю, вам ясно. Цекова чтобы в газете не было... Всё.
Я и понял, что всё, встал и пошел к выходу, где меня догнал Рекунков.
— Зря не согласился сразу, ведь они дожимать умеют. А извинишься — еще поработаешь... А там видно будет, кто тут останется…
Опытный был мужик Рекунков, но и он не усидел впоследствии в кресле Генерального прокурора:”недоизвинялся”.
Я пришел домой, в газету не поехал, наверняка наткнулся бы на торжествующие лица: ведь им сразу, без сомнения, позвонили. Решил, что извиняться не буду, ведь правда на моей стороне. Вечером прижало сердце, было плохо. Лег в больницу. Первый микроинфаркт. Ругал себя: подумаешь, Севрук. Впереди еще много схваток, надо не болеть, контролировать нервы и сердце. Но, видать, не все внутри нас нам подвластно.
В газете Мокроусов с удовольствием извинился перед “народом Осетии”, а вообще-то надо было написать “перед жуликами и проходимцами”, и объявил, что есть указание ЦК не пускать Цекова на страницы газеты.
Так и не смогли мы остановить распад, обратить внимание общества, власти на положение на Северном Кавказе. Дело не только в национализме, но и в разрушении системы, в коррупции на всех уровнях. Мы получили в ответ на публикацию сотни писем, подтверждающих это, бьющих в набат об опасности.
Н. Мартыненко (г. Крымск): “40 лет я проживал в соседней Чечено-Ингушетии. Это моя родина. Была квартира, работа. Все бросили, уехали три года назад, потому что подрастают у меня два сына. В вечном страхе русские люди в наших местах. Их всегда обвиняют при убийствах. Тракторист-ингуш гоняется на тракторе за молодой русской учительницей, нам выбивают окна, воруют, в дом залазят, вырубают фруктовые деревья”.
Назревала чеченская война, которую никто не хотел предотвращать.
К. Каримышев из Кизляра взывал: “В городе идут зверские убийства. Вечером, считай — комендантский час. Все решают деньги. В магазинах сдачи не жди. Спросишь — “Рюский дешевка” — и кидает со смехом. В техникум хочешь поступать — плати деньги. И выходят оттуда бараны с дипломом. Хочется верить после публикации, что есть у нас порядочные люди, которые наведут порядок”. Хотелось верить и нам.
Не получилось…
В 1980-м развернулась борьба против всех русских изданий, как это уже было десять лет назад. Чудаки, они не понимали, что на месте одного сраженного встанет другой, что он будет осторожнее, замкнутей, но будет не менее мужественным и преданным сыном своего народа. Пусть эти борцы с русскими, как Батый, сожгут Киев, как Лжедмитрий, сядут на престол, как Наполеон, сожгут Москву, как Троцкий, овладеют армией, как Гитлер, пройдут танками по святыням страны, но их всех ждет такая же плачевная участь, как тех временных победителей...
В Москве в июле 1980-го открылась грандиозная Олимпиада. Шутники ухмылялись: Хрущев обещал в 1980 году коммунизм, а вышла Олимпиада. Но для Москвы того лета коммунизм почти что наступил. В столицу въезд для немосквичей был закрыт, билеты не продавали. А значит, “колбасные” поезда из столицы не уходили. Помню, как в лифте в нашем доме в бывшем Безбожном переулке маленький, ныне покойный Дима Дементьев, обращаясь к миллионерше Онассис, силой цековских указаний поселившейся в писательском доме, загадал загадку: “Отгадай: длинный, зеленый, глаза горят, а мяса нет. Что это? Не знаешь? — Поезд за колбасой в Москву!” Мадам, выслушав перевод, хохотала минут пять, всплескивая руками: “А мяса нет!” Мясо в Москве было в то лето всех видов и прекрасного качества. Отечественное. И дешевое. Город был прибранный, красивый, по улицам можно было ходить всю ночь. Бывший посол Ирака, тогда учившийся в Москве, сказал мне несколько лет назад:
— Более спокойного и доброго города, чем Москва, я не знал с тех пор, хотя объездил многие столицы мира.
Сергей Павлов, председатель комитета по спорту, сделал все, чтобы Олимпиада прошла на высочайшем уровне. А уровень этот он умел создавать еще с давних комсомольских лет. Спортсмены его боготворили. Такого спортивного вожака они уже больше не знали.
В газете была поистине олимпийская обстановка. Все были распределены по объектам, предоставляли репортажи, очерки, зарисовки, беседовали с великими спортсменами. Конечно, передать атмосферу открытия Олимпиады было непросто, хотя в Москве и умели проводить масштабные мероприятия — вспомним Всемирный фестиваль молодежи, спартакиады народов СССР, манифестации комсомольцев и молодежи на Красной площади, встречи Ю. Гагарина и Фиделя Кастро. Но такого, в общем, внешне деполитизированного, в окружении олимпийских знамен, с таким количеством красавцев и красавиц-спортсменов со всех континентов, пожалуй, не было. Когда по дорожке стадиона промчалась античная греческая квадрига, пошли национальные делегации, все долго аплодировали организаторам. Олимпиада состоялась, как бы ее ни блокировали американцы и натовцы. Хуан Антонио Самаранч, пересевший из посольского кресла в кресло президента Олимпийского движения, был доволен. Он свои обязательства выполнил.
Неожиданно нагрянул в “Комсомолку” барон Фальц-Фейн, бывший до революции владельцем многих земель и дворцов в России. Я был у него в ФРГ, и он просил помочь ему устроить сбереженные или купленные им культурные ценности, картины в наши музеи.
— В чем же дело?
— Я хотел бы, чтобы в музеях была небольшая табличка, что это дар барона Фальц-Фейна.
— Ну и хорошо...
— Да это для вас хорошо, а министерство культуры против.
Я понял, что кто-то не хочет, чтобы наши русские музеи пополнились новыми культурными ценностями. А между тем Литва спокойно (возможно, при некотором недовольстве московских чиновников) приобрела у бывшего эмигранта целую галерею приобретенных им на Западе картин литовских и европейских классиков. У входа в этот зал висела табличка о дарителе. Вот так, литовцам можно, а русским нельзя. Великая интернациональная политика!
Я решил всячески способствовать барону, звонил в министерство, музеи. “Никоим образом. Пусть отдает анонимно”. Тогда мы сочинили письмо на имя министра культуры и напечатали его в дни Олимпиады в газете. Олимпийская хартия не позволяла отбрыкиваться от гуманных даров и требовала воздавать должное подвижникам. Фальц-Фейну пообещали “утрясти” его проблему (хотя она была отнюдь не его).
…Улетел олимпийский Мишка, вызвав потоки добрых, светлых слез. Александра Пахмутова превзошла себя, написав щемящую, космически-прощальную мелодию. Слева и справа от меня в Лужниках стояли плачущие люди. Громыхнул салют! Невиданный до того времени разноцветный салют. Расходились пороховые дымы, что-то важное отходило в прошлое. Чувствовалось, что страна накануне больших перемен.
Устав от олимпийской суеты, мы с космонавтом Виталием Севостьяновым и председателем КМО Володей Аксеновым решили поплавать в одном из опустевших олимпийских бассейнов. Был с нами и великий шахматист Анатолий Карпов, а также какой-то сотрудник — то ли КМО, то ли еще чего-то. Искупались, пообсуждали итоги Олимпиады, сели пить пиво тут же, в бассейне. Виталий решил поднять за всех бокалы. Похвалил Толю Карпова, он у него был неким духовным вдохновителем, даже психологическим тренером. Потом сказал:
— Давайте выпьем за Валеру Ганичева, главного комсомольского идеолога, как говорил Юра Гагарин.
Подняли бокалы с пивом, чокнулись и забыли. Но забыли не все. Этот сотрудник с пониманием написал докладную. Через день меня с Пастуховым и Аксеновым вызвали в ЦК КПСС к первому заместителю заведующего отделом оргпартработы Петровичеву.
— Рассказывайте, чем вы там занимались? О чем говорили?
— Где? Когда?
— Не прикидывайтесь. Там, в бане, позавчера.
— Да не в бане, а в бассейне. И никаких разговоров особых не было.
— Вот бумага, садитесь и напишите все, как было.
— Да что было-то?
— Вам лучше знать. Пишите все, о чем говорили.
Честно говоря, не так уж часто (так было в 1956 году, когда я с товарищами организовал подписи в защиту нашего преподавателя Григория Джеджулы в Киевском университете) приходилось писать объяснительные записки в парторганы. Написал. О том, что плавали, обсуждали итоги Олимпиады. И под хмурые взгляды был выпровожен из кабинета. Пастухов остался.