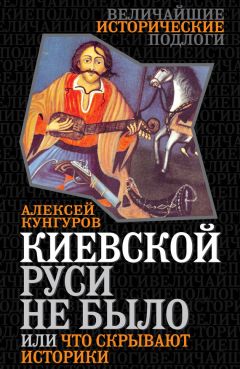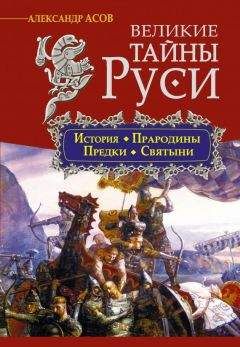Павел Мельников-Печерский - Очерки поповщины
Но все прощалось рогожцами попу Ивану Матвеевичу, прощалось за его беспредельную ревность к расколу, за его «словеса учительныя и пользительныя старообрядству», за важные услуги, оказанные им Рогожскому кладбищу. Еще он был «попом-новиком» на Рогожском всего еще десять лет священствовал у раскольников, как над Москвой разразилась французская гроза 1812 года. Старообрядцы в страхе разбежались. Большею частью укрылись они в Гавриловом посаде, Владимирской губернии, в Романове и в Керженских скитах. Иван Матвеевич остался на кладбище. Известно, что вступление неприятеля в столицу было совершенно неожиданно для ее жителей, которых граф Ростопчин до последнего часа обнадеживал в безопасности Москвы. Известно также, что из самых даже кремлевских соборов не успели вывезти заблаговременно драгоценности, которые и сделались добычей наполеоновской армии. Драгоценности Рогожского кладбища тоже, разумеется, остались на своих местах. Поп Иван Матвеевич не бежал, подобно другим, в виду неприятеля, хотя и имел к тому все средства, — он остался хозяйничать на Рогожском. С помощью нескольких работников, иконы, книги и все церковное имущество он успел скрыть в нарочно вырытых, а потом засыпанных на кладбище могилах. Ограбив Москву, французы пожаловали и на Рогожское кладбище, но, не найдя, чем поживиться, оставили его нетронутым. Как скоро они очистили город, Иван Матвеевич, еще до возвращения разбежавшихся старообрядцев, все поставил на своих местах. Спасение рогожских драгоценностей приписано было особенному покровительству божью, оказанному последователям «истинной веры»,[333] и в память того сделана надпись в Рождественской часовне. «И действительно, — говорили рогожцы, — православные церкви разграблены, у беспоповцев на Преображенском кладбище все цело, но потому, что преображенцы в день вступления французов в Москву посылали к французскому коменданту ходатая на поклон с тарелкой золота, получили охранную стражу из жандармов, водворили на Преображенском французскую фабрикацию русских фальшивых ассигнаций и даже удостоились посещения самого императора французов с королем Неаполитанским. А рогожцы никого не просили, а все осталось цело. Это чудо: бог ослепил врагов, ничего они не нашли», — стали говорить рогожцы, и такие рассказы имели огромное влияние на увеличение совращений в поповщинскую секту православных и некоторых беспоповцев. Другую услугу Рогожскому кладбищу оказал поп Иван Матвеевич немедленно по очищении Москвы неприятелем. Ему, говорят, обязано было Рогожское кладбище тем, что граф Платов оставил в нем полотняную церковь, а начальник Москвы словесно разрешил служить в ней обедни.
Возвысившись таким образом во мнении старообрядцев в годину московского разорения, Иван Матвеевич окончательно стяжал славу «крепкого адаманта и твердого хранителя святоотеческих законов и древлецерковнаго благочестия» вскоре после воспретительного указа 1827 года. При последовавшем, вследствие того указа, «оскудении священства», рогожские старообрядцы увидели себя в безвыходном положении. Значительная их часть громко заговорила о принятии правильного священства, то есть единоверия, особенно простонародье. Старики и фанатические ревнители раскола ужаснулись при виде столь несообразного с их видами и расчетами направления умов народа. Во что бы то ни стало они вознамерились поддержать прежний порядок вещей и ни под каким видом не допускать на кладбище единоверческого богослужения.[334] Помог и в этом случае горю их поп Иван Матвеевич.
Много было по этому случаю собраний на Рогожском. много было толков, споров и ссор. У простых людей и до драки дело доходило. Наконец, чтобы «умирить все народное множество», по совету Ивана Матвеевича назначен был день для великого собора. Накануне отпели всенощную, поутру отправили часы и совершили крестный ход кругом часовни. Все это сделано было с особенною торжественностью, стройно и чинно, и сильно подействовало на народную массу. Затем среди Рождественской часовни поставили аналогий, Иван Матвеевич положил на нем крест и Евангелие и стал возле. Как скоро часовня наполнилась собравшимися на совещание, он, не допуская начала рассуждений, поднял руку с двуперстным сложением и громко произнес: «Стойте в истинной вере и за правый крест до последней капли крови! Кто последует истинной Христовой вере, подходи и целуй крест и евангелие, а кто не желает оставаться в прежнем положении — выходи вон». Эффект вышел чрезвычайный: все до единого приложились ко кресту, и о принятии на кладбище правильного священства и речи больше не стало. Весть об этом распространилась по всему старообрядству, и слава Ивана Матвеевича прогремела далеко.[335]
По смерти попа Ивана Ефимова, около 1825 года, Иван Матвеевич сделался старшим попом Рогожского кладбища. У него духовными детьми, за весьма немногими исключениями, была вся московская старообрядческая аристократия, все богачи и влиятельные люди. Он был умнее и начитаннее других рогожских попов, и странное, по-видимому, дело: между тем как товарищи его всячески старались как можно осторожнее выражаться о православии, Иван Матвеевич постоянно относился к нему враждебно, с желчью и нередко даже с богохульством. Другие попы заметно тяготились совестью при воспоминании об отступничестве и старались хоть вином залить ее. Ивана Матвеевича никогда не мучило раскаяние. Зато и пил он воздержно, предпочитая вину фрукты из оранжерей духовных чад своих и красивых девиц из собственного своего духовного вертограда. Другие рогожские попы рано или поздно возвращались в недра покинутой церкви: Иван Матвеевич не допускал и мысли о примирении с нею. Ни один из дозволенных попов не соглашался на учреждение заграничной старообрядческой иерархии: Иван Матвеевич был в числе ее учредителей и впоследствии признал над собой главенство и белокриницкого митрополита, и Софрония, который некогда под именем Степки Жирова был у него в певчих. В то же время и с рогожской святыней Иван Матвеевич обращался самым бесцеремонным образом и на свое служение постоянно смотрел как на доходное ремесло.
Другой рогожский поп, очень уважаемый раскольниками и уважаемый по справедливости, Александр Иванович Арсеньев, был прежде православным священником в Костромской епархии. Приход у него был бедный, и Арсеньев нуждался в самых необходимых жизненных средствах. Прельщенный раскольниками, посулившими ему жизнь спокойную и не только безбедную, но даже роскошную, он бежал в Рогожское в 1817 году, и старшим попом Иваном Ефимовым перемазан в полотняной церкви. Двадцать семь лет служил он на кладбище, и странная судьба семейства Арсеньевых: служил он раскольникам в то самое время, когда родной брат его, Константин Иванович, наш известный ученый, преподавал историю и статистику России наследнику цесаревичу. Александр Иванович Арсеньев был человек с отличными природными способностями, большой начетчик и отличался безупречной жизнью, безукоризненной нравственностью. За то и пользовался он уважением и любовью старообрядцев. Многие из них, даже в некоторый ущерб Ивану Матвеевичу, считали его «что ни на есть лучшим попом».[336] Духовных детей было у него больше, чем у других попов, особенно много бывало у него на духу женщин. Арсеньев был человек энергичный, решительный, но в то же время крайне самонадеянный. Вследствие того он нередко нарушал условия, с соблюдением которых правительство дозволяло попам, дозволенным правилами 1822 года, доживать век свой на Рогожском кладбище. В 1833 году он переправил в раскол солдатку, венчал свадьбы ранее определенного законом возраста, венчал по-раскольнически православных и даже выдавал в том письменные свидетельства. Возникли дела, и московский совещательный о раскольниках комитет в 1837 году постановил: отослать Арсеньева на законное суждение к костромскому преосвященному, из епархии которого он двадцать лет перед тем бежал. Для исполнения этого постановления потребовали Александра Ивановича в канцелярию московского генерал-губернатора, но рогожцы отвечали полиции, что Арсеньев находится в отсутствии,[337] хотя отлучки рогожским попам и были воспрещены законом. Действительно же Арсеньев не думал выезжать из Рогожского кладбища и жил спокойно в своем доме, даже разъезжал по Москве в карете, но с опущенными шторами на окнах. Таким образом, скрытно, но, конечно, небезызвестно для московской полиции, проживал Александр Иванович целые семь лет, до самых тех пор, как наконец по высочайшему повелению, 25-го апреля 1844 года, был взят и отправлен в Кострому.[338] Кладбищенский конторщик Синицын и певчий, а потом уставщик, Жигарев нередко ездили в Кострому и поддерживали связи Арсеньева с московским старообрядчеством. Через несколько времени он однако обратился к единоверию и сделан был протоиереем и благочинным всех единоверческих церквей Черниговской епархии. Связи свои с Рогожским кладбищем он однако сохранял до самой смерти и, бывая в Москве, всегда посещал бывших своих сослужебников, попов Ястребова и Русанова.[339] Две большие записки его, одна — «о Рогожском кладбище», другая — «о действиях Кочуева», писанные в 1854 году, служили важным пособием при составлении этих очерков.