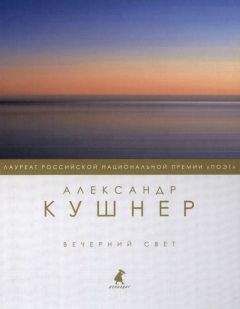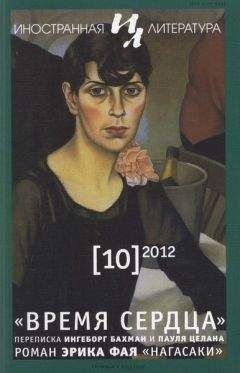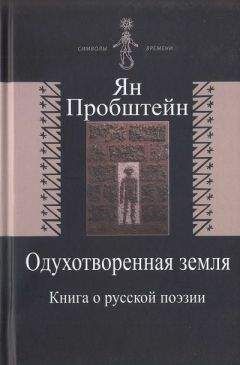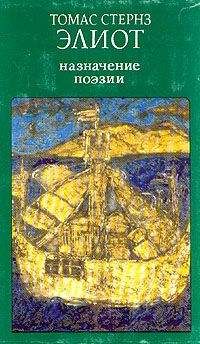Александр Скидан - Сумма поэтики (сборник)
Логику сопричастности двух инородных полюсов[255]отмечает и потенциальный клиент Балдаева, знакомый, в отличие от него, с ситуацией изнутри: «Всё просто – 10–20 человек в маленькой комнатушке, если не будут придерживаться четких правил и ограничений, не то что свои минимальные права отстоять не смогут, просто перегрызут друг другу горло. Нарушитель карается очень строго, – просто ударив кого-то, он реально рискует потерять как минимум здоровье, а то и честь, где-то в боксах, других камерах, на этапах, на зоне. Возмездие неминуемо, рано или поздно – этот принцип строго соблюдается – если у тебя была возможность спросить с беспредельщика и ты этого не сделал – спросят с тебя (как и принцип неминуемости наказания в юстиции, – в общем, как это ни парадоксально выглядит на первый взгляд, психология представителей преступного мира и правосудия очень схожа. Я заметил, что они даже любят одну и ту же музыку, не говоря уже о поведении и жизненных ценностях)»[256].
Теперь, после этого краткого социологического экскурса, мы можем вернуться к Кафке, показывающему подноготную генеалогию этой морали.
Медленный, технически сложный процесс исполнения приговора не лишен эстетической составляющей, замешенной на своеобразном интеллектуальном садизме: «Да, – сказал офицер и, усмехнувшись, спрятал бумажник, – это не пропись для школьников. Нужно долго вчитываться. <…> Конечно, эти буквы не могут быть простыми; ведь они должны убивать не сразу, а в среднем через двенадцать часов; переломный час, по расчету, – шестой. Поэтому надпись в собственном смысле слова должна быть украшена множеством узоров; надпись как таковая опоясывает тело лишь узкой полоской; остальное место предназначено для узоров»[257]. Кафка здесь, похоже, обращает, доводя до убийственного абсурда, кантовское определение искусства как «целесообразности без цели», а удовольствия от искусства – как «незаинтересованного», ведь нанесенные узоры исчезнут в яме вместе с трупом, любоваться ими будет некому. Все происходит так, как если бы под покровом отправления безличного правосудия судебная инстанция втайне наслаждалась зрелищем мучений, и – в неменьшей степени – неведением жертвы, которая не способна оценить ни высший смысл, ни техническое совершенство и красоту процедуры. (То же самое верно и для «Процесса», где судьи откровенно глумятся над невежеством К., несведущего в бюрократических тонкостях, а присяжные занимаются под шумок любовью с прачкой; порнографическая изнанка Закона преследует и землемера в «Замке», где в обязанности женщин – посредниц между высшей бюрократией и деревенскими жителями входит оказание этим первым сексуальных услуг.) Офицер почти не скрываетсвоего сладострастия: «Но как затихает преступник на шестом часу! Просветление мысли наступает и у самых тупых. Это начинается вокруг глаз. И отсюда распространяется. Это зрелище так соблазнительно, что ты сам готов лечь рядом под борону»[258].
Следуя генеалогической логике Кафки (и Ницще, Ницше, конечно!), можно предположить, что в практике татуировки уголовный мир не просто зеркально отражает аппарат суверенной власти, но является его интроекцией и перекодированием в той же мере, в какой сам этот деспотический аппарат интроецировал древние, «варварские» техники дрессуры, заставив их служить своим целям. Он усваивает древнейшую формулу «причиненный ущерб = перенесенному страданию», формулу, определяющую первичную структуру отношения человека к человеку. «Вся глупость и произвол законов, вся боль инициаций, весь извращенный аппарат подавления и воспитания, каленое железо и инструменты пыток имеют лишь этот смысл – выдрессировать человека, отметить его плоть, сделать его способным к союзу, сформировать его в отношении кредитора-должника…»[259]
Как возможно расплатиться страданием, спрашивает Ницше. И отвечает (не без ликования): глаз извлекает прибавочное удовольствие из зрелища боли. Это глаз бога или сверхчеловека, великого законодателя, основателя государства. Как возможно расплатиться, спрашивает в свой черед Кафка. И отвечает (не без содрогания): глаз извлекает извращенное удовольствие из зрелища чужой боли; нужно лечь под борону вместе с осужденным.
Публичная казнь, как ранее жертвоприношение, скреплявшее союз богов и людей, стала чем-то пугающе непристойным, вроде бойни, но эта же непристойность, «задрапированная смешной мишурой», сегодня равно эксплуатируется культуриндустрией и эстетствующим искусством. Кажется, нас приучают к мысли, что первобытно-общинный театр жестокости никуда не делся, «просто» перешел на новой технологический уровень, где просветление наступает ad libitum и у самых тупых.
Девять персонажей в поисках метода[260]
Выход сборника «Авто-био-графия» – событие важное и симптоматичное. Прежде всего потому, что в нем довольно четко прослеживается размежевание с доминировавшей еще недавно французской критической традицией. Особенно показательны в этом смысле работы Валерия Подороги, одного из самых влиятельных на сегодня русских философов. Несколько заостряя, можно сказать, что по своей интенции эти работы – антибартовские, антидерридианские, а во многом и антиделёзовские. Последнее тем более значимо, что на протяжении ряда лет мысль В. Подороги плодотворно двигалась в поле притяжения философских конструкций именно Делёза (в тесной связке с Фуко).
«Авто-био-графия» отчетливо распадается на две части. Из 438 страниц 240 занимают программные тексты В. Подороги и посвященное одному из них – «Материалам к психобиографии С.М. Эйзенштейна» – обсуждение, озаглавленное «Вопрос о методе». В нем принимают участие те, чьи статьи составляют вторую часть: Олег Аронсон, Елена Петровская, Михаил Рыклин, Андрей Парамонов, Елена Ознобкина, Олег Никифоров, Владимир Майков, Игорь Чубаров и Сергей Земляной (статьи в сборник не представивший, зато выступивший во время дискуссии с довольно жесткой критикой в адрес практикуемого Подорогой подхода). Структуру сборника «закольцовывают» две рецензии, Петровской и Аронсона, в центре внимания которых, опять-таки, фигура Эйзенштейна.
Перед нами, таким образом, коллективный проект, отпочковавшийся – или встроенный – в индивидуальный проект Подороги, чьи интересы, начиная по меньшей мере с курса по «Феноменологии тела» (1995), концентрируются в области аналитической антропологии. В предисловии Подорога так описывает задачи семинара, вылившегося в выпуск «Тетрадей»: «…проанализировать ряд понятий, принадлежащих автобиографическому дискурсу <…> Перепроверка жанра. Как возможна авто-био-графия, но не как литературный жанр, а как концептуальное единство, как дискурс или высказывательный порядок, продолжающий влиять на выработку нашего отношения к становлению экзистенциального опыта во времени <…> как история жизни может быть выражена в понятиях? <…> Предметная область автобиографии предстает в виде поля сражения, в котором участвуют наиболее влиятельные современные дискурсивные практики. В сущности, аналитическая работа сводится к реконструкции смысла, которым наделен тот или иной объект [“автобиографический”] в каждом из противоборствующих дискурсов».
Первым – и центральным – полем сражения становится «произведение Эйзенштейн». Подорога начинает с феноменологически «нейтрального», подробного описания фотографии, запечатлевшей «одетого под маленького лорда Фаунтлероя» мальчика на козетке, застывшего в непринужденно-элегантной позе. Суггестивная мощь вступления усиливается тем, что имя Эйзенштейна поначалу отсутствует, речь идет о «маленьком мальчике», в лучшем случае о «Сереже». Стиль Подороги как бы имитирует медленное проступание изображения на помещенной в проявитель фотобумаге. Этой вдумчивой неторопливости как-то сразу безоговорочно доверяешься. Она «забирает», захватывает под стать самой позе, служащей предметом тщательного рассматривания и скрывающей в себе некий «фокус». Этот «фокус» в том, что естественность и непринужденность придает позе «новоявленного лорда» невидимая, но угадываемая зеркальная подпорка, какие в ту пору повсеместно использовали в фотоателье для придания телу «правильной» осанки. Насильственная ортопедия. Телесный канон. Идеал, в который втискивает маленького Сережу («его первая роль») папа-тиран. И далее, отталкиваясь от этого красивого эмблематического образа, образа принудительной неподвижности («подвешенности»), обращаясь к мемуарам, письмам, рисункам, кинематографу Эйзенштейна, воспоминаниям о нем современников, Подорога строит свое произведение «Эйзенштейн».