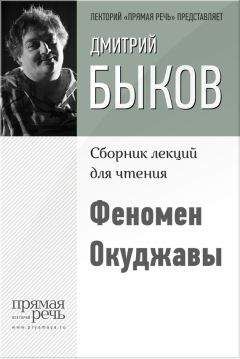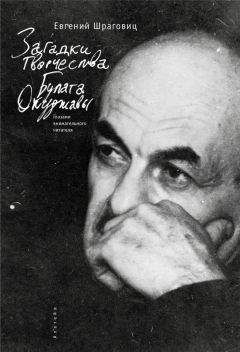Станислав Рассадин - Книга прощания
Все правда. И – «воровали», вплоть до того, что Ме- жиров озаглавил свою первую книгу памятной глазков- ской строкой «Дорога далека», а самойловское «сороковые, роковые» – тоже из него. И – «не утянули»: как позаимствуешь своеобразие столь ошеломляющее, что наводит на мысль о безумии?
Мысль, возможно, спасшую Коле жизнь.
Господи! Вступися за Советы! Сохрани страну от высших рас, Потому что все твои заветы Нарушает Гитлер чаше нас.
Тоже военный, 1941 год, и, кто знает, если бы не репутация юрода, гонораром за эти стихи стал бы лагерь или чекистская пуля?…
Но:
Трудно в мире подлунном
Брать быка за рога.
Надо быть очень умным.
Чтоб сыграть дурака.
Трудно – сыграть; играть беспрестанно, всю жизнь – трудно до невыносимости. И, что хуже, опасно; причем уже не в вышеуказанном смысле.
«Меня не изучал Рассадин», – укоризненно начал Коля Глазков стихотворную надпись на даримой книге. А продолжил напористо: «Был этот факт весьма досаден! Заполнить надо сей пробел, хочу, чтоб он меня воспел». Что, в общем, и было исполнено – должен признаться, с немалой затратой усилий. Не благородно творческих – если бы так; нет, понадобилась изворотливость, равно унизительная для критика и для поэта, чтобы сочинить рецензию на плохую (да!) книгу несомненно большого поэта.
Пусть неизбалованный Коля одобрил меня с напускной вальяжностью: «Качеством доволен! Количеством – нет!» – я был изначально зажат в противоестественные тиски. Не похвалить, хоть и кратко, Глазкова, наконец-то допущенного в печать, было немыслимо, а хвалить – трудно, ибо два-три истинно глазковских стихотворения, тоже, впрочем, не из самых-самых, были надежно завалены в книжке мусором ширпотреба.
Чему виной, к несчастью, был не только редакторский произвол.
В книге «Курсив мой» Нина Берберова говорит о само- бытнейшем Алексее Ремизове: «…Он утерял контроль над своими чудачествами. Читатель устает ему их прощать…»
Дело обычное, и зря Саша Черный некогда так разобиделся на Корнея Чуковского, заметившего, что маска идиота, надетая на умное лицо поэта-сатирика, случается, прирастает к живой коже. «Юродивый Поэтограда», имевший право сказать: «Я поэт ненаступившей эры, лучше всех пишу свои стихи» (заметим, как лукаво и тонко скорректирована похвальба: ведь «свои», не какие-то там еще), – он, то ли измученный судьбой того, кого чтут, но не печатают, то ли вправду выгравшись в роль дурака-графомана, начал производить немереные километры стихов не своих. Ничьих. Перестал быть «сумасшедшим Глазковым», чья «ненормальность» есть взлет нормальности, имеющей силу и смелость оторваться от подножного смысла. «Самсебяиз- дат» снизошел до уровня общепринятой гладкописи.
Судьба изменилась. Многочисленные приятели, состоявшие на службе у литературного официоза, с искренней радостью приняли падение поэта, начали выходить «настоящие» книги в «настоящих» издательствах, и не единожды приходилось наблюдать, как некто, дождавшись глазковских книг, разводил руками:
И это – «гений Глазков»? А мне говорили… Значит, еще один миф?
…Марк Галлай, которому довелось работать с первыми космонавтами (кстати, пресловутое гагаринское «Поехали!» было перенято именно у него: с таким ямщицким напутствием себе самому Марк некогда отправлялся в собственные испытательные полеты), рассказал как-то такую историю. Почти притчу. На какой-то лекции – по психологии? по психиатрии? – его подопечным решили продемонстрировать классический случай мании величия. Ввели невзрачного человека. Осведомились об имени, отчестве и фамилии (предположим, Иван Иванович Иванов). Спросили, какую занимает должность (допустим, заведующий сектором общепита Мытищинского района). Какое нынче число (ответил). Читает ли прессу (читает). Что из последних событий особенно взволновало (происки американских империалистов). Обычный советский стереотип.
Разумеется, по уходе реципиента обучающиеся спросили: где же здесь мания величия?
– Дело в том, – ответили им, – что на самом деле он – Петр Петрович Петров. И не заведующий, а рядовой буфетчик.
Действительно, притча.
Драма – а иначе не скажешь – Николая Глазкова в том, что его постигло сумасшествие подлинное, на этот раз всеобщего, заурядного, эпидемического характера, когда ты в мечтаньях своих не «гений Глазков», не «наш друг Наполеон», а нормальный стихотворец, пишущий неотличимо от подобных тебе и оттого ставший благополучным. Что – страшно.
Оптимизм внушает только одно, им и предсказанное:
Все сметут, сведут на нет
Годы, бурные, как воды,
И останется поэт –
Вечный раб своей свободы.
А на что еще нам надеяться?…
СМЕРТЬ ЖУРНАЛИСТА
Помню его последний звонок. Милую хрипловатость:
– Стаська-а! Давно не видались. Давайте, черти, встретимся. Попоем…
«Попоем» – это уж было сказано от широкодушия. Подпевать – куда ни шло, и то лишь когда застолье прибавляло наглости и заставляло забыть о собственной певческой бездарности. Пел – он, Толя, Анатолий Аграновский. Пели – они, избранные: как праздник, каких не так много случается в жизни, вспоминаю домашнее пирова- ние по случаю Толиного шестидесятилетия, год 1982-й. Тогда в доме звучало сразу несколько гитар и несколько невольно соревнующихся голосов – его самого, сыновей Алеши и Антона (один – доктор биологии и вдобавок знаменитый блюзмен, другой – врач-офтальмолог) плюс «дядя Изя»… Ставлю старательные кавычки по той причине, что долгое время, восхищаясь тем чудом, которым было и осталось для меня песенное творчество Аграновского, слышал это имя, произносившееся с тем почтением, с каким говорят об учителе и патриархе. Виделось нечто то ли библейски-седобородое, то ли почти фольклорное, из одесских песен Утесова, – и на тебе! Встретил в конце концов кряжистого здоровяка, умницу-адвоката, виртуоза-гитариста; и, когда на скорбно-веселых сходках памяти Толи «дядя Изя» берет… увы; брал гитару, меня заранее трясло от восторга, но и глаза увлажнялись.
Песни, сочинявшиеся Аграновским, не были просто хобби, даром что он избегал их тиражировать. О чем сожалею, с состраданием думая о тех, кто их не слыхал. Сочинялись они на стихи классиков ли XX века Ахматовой, Пастернака, Цветаевой, Заболоцкого, Мандельштама или живущих, по крайности, живших в ту пору, когда их слова ложились на музыку, – Самойлова, Слуцкого, Ме- жирова, Ваншенкина. (Заодно был курьез, воплощенный в причудливом сочетании: «слова Никиты Богословского, музыка Анатолия Аграновского», – именно так прославленный литератор «озвучил» стишок прославленного композитора на злободневную тогда тему о мужской стерилизации, проводимой в народном Китае: «Горят, горят фонарики, мерцают огоньки. Сидят, сидят фанатики у
Желтой у реки… Китайские фанатики, загадочный Восток, порезали канатики, заделали проток». И т. д. – на будто бы ориентальную, уморительно стилизованную мелодию.)
Не впадая в дружескую истерику преувеличений, считаю песни – романсы, зонги, как вам угодно, – Анатолия Аграновского шедеврами вовсе не дилетантского уровня, как и общий наш друг Лазарь Лазарев не хватил лишку, написав в своих воспоминаниях: задолго до Таривердиева и Андрея Петрова Толя нащупал «мелодический принцип современной песни». И… Похвастаться, что ли? Похвастаюсь, оправдав хвастовство некоей сверхзадачей.
Мне выпала честь отобрать для него «тексты» Осипа Мандельштама – в узких пределах нашей компании я слыл «мандельштамистом». Были предложены «Александр Герцевич», «Я вернулся в мой город…» – и родилась едва ли не адекватная стихам музыка, но вот «Шерри-бренди» («Я скажу тебе с последней прямотой: все лишь бредни – шерри-бренди, – ангел мой») Аграновский отверг решительно:
– Это не мое. Это, скорей, в Сашкином духе.
То есть в духе любимых им песен Галича, которые он исполнял лучше самого автора, – что еще не так удивительно. Удивительнее, что он был – во всяком случае, до поры, пока вровень с ним не возник Сережа Никитин, – единственным, кто пел Окуджаву, ну пусть не лучше, однако же и не хуже Булата. И – очень по-своему.
Ах, как до терпкости сладко мне вспоминается, сколь волновался наш Толя, впервые готовясь спеть перед Окуджавой его песни. Или – как в Малеевке они с Галичем чередуются-состязаются, хищно подстерегая момент, когда допоет другой, чтобы немедленно перенять гитару. Это и в те дни понималось как счастье, а уж теперь…
Впрочем, я позабыл оправдать свое хвастовство.
Аграновский твердо знал, что в Мандельштаме – его, а что – не совсем его. Умел не то чтоб преодолеть, но раскусить нарочитую прозаичность стиха Слуцкого, извлекая из скрытности незащищенную детскость. В резких, страдальческих переносах Цветаевой, говоря по-ученому, в анжамбеманах:
Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока,
мог угадать то, что, как начинало казаться, специально придумано для гитарного перебора, и в этом во всем различаю чуть не решающую его черту. Как журналиста-профессионала. Просто – как человека. Сугубую определенность самоощущения и притязаний. Вкус. Самоограничение – хотя оно-то как раз и есть производное вкуса. Страсть к преодолению.