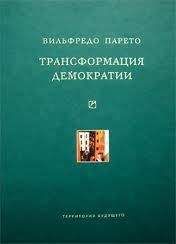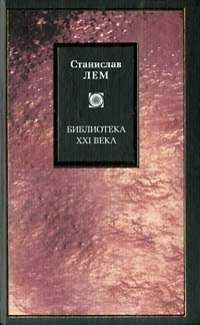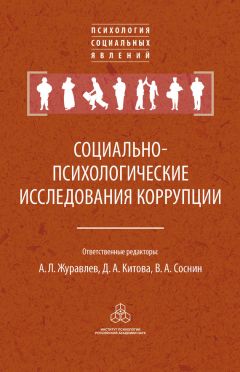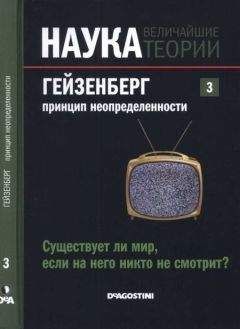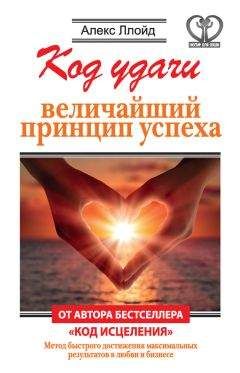Политическая коррупция в Третьем рейхе - Грибов Андрей Юрьевич
Во-первых, это общая электроника, или понимание того, как вообще работают компьютеры. Надо понимать, почему она основана на двоичной системе счисления (именно единичках и ноликах), а не на, условно говоря, двоечках или троечках.
Далее, очень важна новейшая электроника, она же электроника так называемых закрытых областей, прежде всего — военная электроника, в которой применяются специальные алгоритмы. Ведь сугубо мирных технологий изначально не бывает. Если человек что-то изобретает, обычно это изобретение сначала используется для того, чтобы всех соперников поубивать. Когда человечеству удалось осуществить расщепление атомного ядра, для начала убили 300 тыс. человек в Хиросиме и Нагасаки. Думаю, что и обезьяна взяла палку в первый раз не для того, чтобы фрукт сбить с дерева, а чтобы настучать по голове другой обезьяне.
То же самое в электронике: все, что мы видим в мирной области, будьте уверены, сначала использовалось в военной. Например, сотовая связь — это полевая опорная сеть связи, разработанная еще в середине XX века для военного применения. Часть этой технологии рассекретили, и она стала доступна обычным абонентам. Интернет изначально назывался ARPANET и связывал между собой несколько сотен военных учреждений и предприятий в США. Его рассекретили, передали в открытое пользование — и теперь мы шлем друг другу электронные письма, смотрим новостные и прочие сайты.
Итак, для анализа технологий распределенного реестра нужны как минимум базовые знания в электронике двух видов.
Далее — юриспруденция. Юриспруденцию нужно знать: и публичного права — каким образом криптовалюты, деньги, расчеты регулируются государством, и частного (торгового) права, то есть как два равноправных лица (юридических или физических) могут ими обмениваться.
И конечно же, знать макроэкономику.
Попробуйте представить, как много найдется людей, которые знали бы достаточно хорошо все эти отрасли. Лично мне, к счастью, повезло, у меня есть как раз эти три образования: электронное (Московский институт электронного машиностроения), финансовое (Финансовая академия [347]) и юридическое (юрфак МГУ).
И верхнеуровневая проблема даже не в том, чтобы найти многопрофильных универсальных специалистов. Проблема в том, чтобы найти таких универсальных чиновников, потому что ведь именно они должны регулировать процессы на государственном уровне, в области публичного права, но в макроэкономических интересах, и опираясь на знания в области электроники.
Разберем сначала макроэкономические риски

Первый риск — это риск недостаточной грамотности топ-менеджеров. Пример. На одной из профильных конференций выступил докладчик, занимающий весьма ответственную должность, который заявил, что блокчейн и биткойн — это совершенно разные вещи, к которым надо по-разному подходить. А вообще-то биткойн создан на технологии блокчейн. И ведь что интересно, никто не возразил, не возмутился, никто не зашикал…
Другой риск — недооценка будущего ущерба, возникающего в результате появления новыхугроз в связи с развитием технологий, используемых в криминальных целях. То, насколько мы не понимаем будущие риски, можно проиллюстрировать таким примером. Лет пять назад все громко кричали: «Система „банк — клиент“ изменит жизнь, люди из дома по сотовому телефону будут высылать в банк платежки, и все будет хорошо». И никто не предупредил, что одновременно возникнут хакеры, которые будут взламывать счета, заходить туда вместо клиента, делать куда-то переводы. Это описывает Нассим Николас Талеб в книге «Антихрупкость»: «Люди всегда говорят про высоту гор, исходя из знания той самой высокой горы, которую они видели. Но это не значит, что они не найдут гору еще выше» [348]. Никто не оценивает грамотно и квалифицированно вероятность риска того, что эти криптовалюты, не дай бог, украдут. Недавно мне попалась информация о том, что 10 % денег, собранных при ICO, украдены хакерами. И это еще только начало. Процент похищенных средств будет расти, потому что хакеры быстро совершенствуются.
Другой пример. США — высокоразвитая страна, которая создает кибернетическое оружие для защиты своих интересов. И, чтобы заниматься этим оружием, ЦРУ разработало отдельную сверхсекретную сеть, физически не соединенную с остальным интернетом. И у них из этой сети это оружие украли! Возникает резонный вопрос: если хакеры смогли взломать изолированную сверхсекретную сеть ЦРУ в высокотехнологических США, неужели они не смогут взломать Центробанк? А ведь у криптовалют даже единого реестродержателя нет!
Есть очень показательная история о том, к чему приводит недооценка рисков технологий, про которые пока никто не знает. Российский изобретатель Лев Термен изобрел в свое время подслушивающую систему «Златоуст», которая потом 10 лет работала на Россию против американцев [349].

Поехал как-то американский посол в Артек посмотреть на пионеров, и те подарили ему вырезанного из дерева орла. «Красивый орел, — подумал посол, — повешу у себя в кабинете, это же символ Америки. И потом, он абсолютно деревянный, никаких проводочков из него не торчит, электрическое питание не подведено — там не может быть подслушивающих устройств!» Так орел 10 лет провисел у него в кабинете. И когда уже точно знали, что где-то у него в кабинете есть подслушивающее устройство, и разобрали все по деталям, все-таки решили и этого орла посмотреть. Его разобрали и нашли некие проволочки. И оказалось, что если этого орла направленно облучать определенной радиочастотой, то проволочки выступают голосовым модулятором, которые берут звук и накладывают на эту частоту. А в другом месте эту модулированную частоту снимают с эфира и слышат, что говорится в кабинете.
Эта технология была никому не известна первые 10 лет своего существования и использования. А вы представляете, сколько сейчас технологий, о которых мы не знаем, а они есть, и они работают! Хорошо, если их когда-то вскроют и разрешат ими пользоваться. Вот, например, вы думаете, что купили мобильный телефон, и он ваш. А Наталья Касперская говорит совершенно открыто: «Смартфон — уже не ваше устройство. Вам его дают, чтобы вы побаловаться могли. А на самом деле это устройство совершенно других людей, которым мы передаем большой и теплый привет» [350]. Соответственно, мы совершенно не понимаем риски новых секретных технологий именно в силу их секретности, а нам говорят: берите и пользуйтесь вовсю. А не прошло не только 10 лет, вообще почти нисколько не прошло.
Следующий макроэкономический риск — это риск выбора авторитетного, но неподходящего решения.

В 1996 году собрались монстры экономики — Microsoft, IBM, Visa, MasterCard — и решили разработать единое для всех решение по электронным платежам. Разработали, называлось оно SET (Secure Electronic Transaction). Visa сказала: отлично, будем жить с этим решением. А грамотные люди, которые разбирались в 1Т, сразу поняли, что оно очень тяжелое, неудобное и никто, условно говоря, не будет ездить в булочную на БЕЛАЗе. А те, кто не разбирались в IT (и в тот момент это был, в частности, «Альфа-Банк»), взяли и купили решение SET за сумму около миллиона долл. США [351]. Но уже через год поняли, что на БЕЛАЗе действительно неудобно ездить в булочную, да и Visa вдруг вышла из этой ассоциации, и IBM сказала: извините, мы ошиблись.