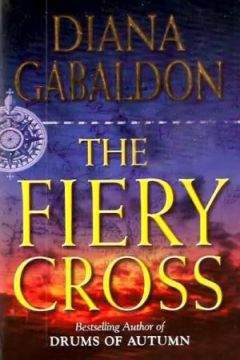Н. Денисов - Огненный крест
Место называлось Сан-Матео. Это было живописное село с речкой, на вид чистой, но зараженной тропической болезнью «билярсией». И нас предупредили, что в речке купаться нельзя.
Но рядом простиралось еще более живописное озеро.
В большом колониальном доме Боливара жили семьи земледельцев из Югославии – сербов, хорватов и русских казаков белой эмиграции, женатых на сербках.
Казаки рассказывали: «По приезде нас обещали посадить на землю, а повезли через узкий перешеек, как Перекоп, на полуостров, на котором ничего не растёт. Песок и колючки. И попробовали посадить нас там, на песок и на колючки, а мы воспротивились. Тогда нас привезли сюда. Мы тут ловим рыбу в озере и продаём в Маракае. Жены наши делают искусственные цветы и тоже продают в Маракае. Живем тут, как на курорте, на всём готовом. Каждые три недели нам меняют простыни, хорошо кормят, еду привозят из Маракая – из «семидор популар» – из народной столовой, которые учредил президент Венецуэлы Ромуло Бетанкур во всех городах страны. Народные столовые с завтраками, обедами и ужинами за один боливар. Но мы не платим этот боливар, за нас платит институт...»
Бумагой и акварельными красками мы запаслись в Каракасе, так что сразу начали рисовать и ездить на автобусе в Маракай продавать наши картинки. Булавин продолжал писать чешские Великие Татры, поскольку чехов оказалось в тропическом городке много. Венесуэльцы требовали у художника свой Шпиц Боливар. И требуемое от Булавина – получали.
Я увлекся тропическими видами окрестностей, рисуя их в классическом стиле, то есть в реальном изображении, но с допущением более ярких красок и фантазий. Булавин называл это импрессионизмом, а мой учитель Хрисогонов, когда в Каракасе я показал ему свои пейзажи, пришел в восторг и определил это – «оригинальным стилем преувеличенной яркости». Он говорил мне: «Ты выдумал новое художество, так и продолжай утрировать тона, цвета. Этот синий цвет не хуже синего периода Пикассо... Я дам тебе несколько уроков, чтобы усовершенствовать твою новую школу, и тогда тебе нужно будет переменить подпись, потому что под твоей подписью Генералова, и Булавина тоже, – вся Венецуэла заполнена дешевыми картинками».
С Булавиным мы договорились: не делать друг другу конкуренции! Он мне сказал: «Шура! Ты продолжай изображать свои тропические виды и не копируй с меня мои Татры, а я не стану писать тропики!»
Наше пребывание-гостевание на курорте «Ингенио Боливар» затянулось. И томило мне душу. Хотя все другие проживающие в райском уголке были довольны. Казаки продолжали ловить рыбу, продавать, копить деньги, их жены преуспевали в изготовлении искусственных цветов, которые тоже ходко раскупались местными жителями. Впрочем, процветала и наша торговля акварелями.
И Булавин не понимал меня: «Живем в доме самого Боливара! Что тебе еще нужно? Тебя кормят, тебе стирают. Выпиваем! Благоденствуем, как богатые туристы. Ну, чем недоволен?!». – «Так нельзя, есаул! Надо начинать жить и работать по-настоящему. А то мы как в богадельне, опять за счет этого института... Нам же обещал чиновник в Каракасе, что его маракайский друг даст нам расписывать только что построенный в Маракае театр! Так когда же?».
«Не будем спешить, Шура! Всему свое время... На службу не напрашивайся, как говорят, и от службы не отказывайся...»
В имении Боливара был у нас администратор и переводчик из румын, такой же, как и мы, иммигрант. Я и к нему приставал с вопросами о «настоящей работе», и он мне отвечал как Булавин: «Что вам нужно? Живете в доме Боливара! Вас кормят, простыни вам стирают. Картинки рисуете. Продаёте в Маракае».
Богадельня эта продолжалась месяц. Кажется, и в отделе института в Маракайе о нас не вспоминали, как вдруг пришел приказ из центра, из Каракаса: «Немедленно устроить всех на работы!»
Подкатил камион, и стали мы грузиться. А потом привезли нас на край города, на место, где были уже начаты приготовления для постройки лагеря европейских переселенцев. Залита цементная площадка. Составные части бараков – дощатые стены и крыши громоздились рядом. Над разворачивающейся стройкой летали и кричали дикие попугаи, веселя ребятишек. Но по ночам, в кромешной темноте, безумолчные крики этих тропических аборигенов, не крики даже, а гвалт, похожий на ругань, конечно, всюду досаждали и приученным к невзгодам взрослым людям.
А пока тормознул наш камион. И нам строго приказали: «Слезайте! Выгружайте ваши вещи, ставьте бараки и живите здесь!»
Все послушно выгрузились, кроме Булавина и меня. И Булавин сказал: «Их никс перро! Их бин Европео!»
Есаул говорил на смешанном языке – немецком с испанским. И прозвучавшая в горячем тропическом воздухе абракадабра означала: «Я не собака. Я европеец!» Но есаул продолжил: «Везите нас в отель, я сам буду платить!»
Переводчик-румын перевел это встретившим нас чиновникам, нас поняли и повезли в самый дешевый маракайский отель, где мы сняли помещение. Не квартиру, не комнату, а место под навесом. Потом нас, не мешкая, повезли на работу.
Проехав немного в кузове камиона, мрачно молчавший Булавин вдруг встрепенулся, закричал: «Шурка! Да ты посмотри: театр! Нас везут расписывать театр!»
Я тоже обрадовался: чиновники исполнили своё обещание! Но увы! Нас провезли мимо. (Этот маракайский театр, не то что «не расписанный» по меркам искусства, а даже просто лишенный покраски в какой-нибудь колер, так и простоит в сиротстве множество лет!)
Камион тормознул перед железными воротами. Потом эти ворота отворили люди в полицейской форме и нас провезли внутрь глухого каменного двора. Да, как мы уже догадались, это была тюрьма. Вокруг были клетки, в которых сидели, как звери в зверинце, арестанты.
«Шурка! Доигрались... Ловчили, не хотели работать. Вот нас и посадили!» – сказал Булавин.
Но нас не посадили, а попросили красить высокие стены тюрьмы. Уже были поставлены леса – шаткие, примитивные, и на верхнем ярусе этих лесов махал огромной кистью смуглый венецуэлец, красил потолок. Венецуэлец спустился вниз, и нас приставили к нему в помощники. Неожиданный для нас начальник дал нам кисти, банки с краской и показал пальцем – вверх. На этот жест неожиданного начальника Булавин криво усмехнулся и ответил по-немецки, что он вверх не полезет, а будет красить внизу. «Шурка! – сказал он мне. – Ты тоже не лезь на эти леса. Они тебя не выдержат. Они выдерживают этого маленького дохлого человечка. Он сам их сделал, смотри как плохо!»...
Но я полез и стал красить потолок. Булавин мне кричал: «Шурка! Слезай!»
Недолго Булавин работал. Быстро устал и опять крикнул мне: «Слезай... Я бросаю это дело... У нас есть непроданные акварели, идём продавать!»
Но я упрямо продолжал «возить» кистью. И вскоре, после ухода Булавина, подо мной хрустнула доска, переломилась, и я в одно мгновение очутился внизу – на каменной площадке двора. К счастью, ни за что не зацепился: как стоял на лесах, так и встал на «пол». Успел еще подумать, что надо приземлиться на носки, не на пятки, как нас учил преподаватель гимнастики в кадетском корпусе...
Ко мне подбежали полицейские, подхватили под руки и повели в тюремный лазарет. Доктор ощупал мне ноги и живот, поднёс стакан какой-то бесцветной жидкости.
Я спросил: «Это Канья Клара – тростниковая вода?». – «Нет. Это слабительное, чтоб облегчить внутренности», – ответил доктор тюремного лазарета.
Пришел Булавин, весёлый, хмельной, распродавший картинки: «Что, жив? Здоров, невредим?.. Мне сказали полицейские: твой друг – парашютист!.. Ничего у тебя не болит? Можешь идти? Так не мешкай, идем продавать картинки. Рисовать и продавать!..»
И мы продолжили жизнь, как в отеле «Конкордия». Рисовали и продавали. Спали под навесом на свежем воздухе.
На дереве, у навеса, была привязана обезьяна – на длинной и звонкой цепи. Обезьяна прыгала на крышу отеля, на наш навес, на проходивших мимо людей. В первую ночь я вышел по нужде, на цинковой крыше отеля раздался грохот упавшего на крышу предмета, и вдруг какой-то зверь прыгнул мне на голову... С ума можно сойти от неожиданности!
Булавин проснулся и забурчал в темноте: «Шурка! Брось играть с обезьяной ночью. Всех побудим. Не дразни обезьяну!»
Маракай тогда был совсем небольшим городком, за месяц мы наполнили его нашими картинками и вернулись в Каракас, в тот же отель «Конкордия». И теперь уже сами платили за проживание, за хлеб насущный, за всё на свете, перейдя на писание наших популярных пейзажей масляными красками.
Жизнь вертелась в том же пространстве. Прежние и новые наши знакомства как бы переплетались и ложились в русло многообразной действительности. Что-то отпадало, уходило в небытиё иль возникало в нашей жизни новыми гранями.
Все реки текут в ОринокоПока мы рисовали, джигитовали и путешествовали по ближним окрестностям Каракаса, в Ла Гуайре продолжал стоять у причала предмет наших недавних устремлений – стотонный корабль Мендосы, неотремонтированный и обросший кораллами. В конце концов, этот ископаемый Карибского моря так и догнил бы, привязанный за ржавый кнехт причала, если бы не нашелся настоящий моряк, бывший краснофлотец из России, который согласился привести корабль в порядок. И много дешевле согласился, чем заламывали венецуэльские специалисты, которые брались за ремонт машины корабля и за очистку корпуса от кораллов, но так и не смогли довести дело, требуемое Мендосой и сиянием морских далей, до конца.