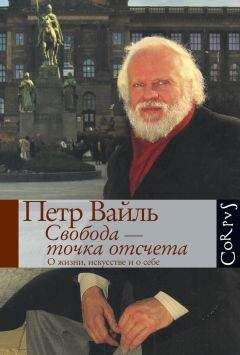Марина Цветаева - Рецензии на произведения Марины Цветаевой
Это, видите ли, должно обозначать равную ударяемость первого и второго слога. — К тому же свойству М.Цветаевой относятся и такого рода примечания: «Слово рев (в другом месте тверже) прошу читать через простое „е“; слово версты прошу читать через „е две точки“». <…>
Г. Адамович
Литературные беседы
<Отрывок>{123}
Имеет смысл только та литература, в которой нет или, вернее, не осталось «литературщины» и где за словом чувствуется человек.
Это — трюизм. Читатель улыбается — зачем ломиться в открытую дверь? Зачем повторять то, что давно известно? Но дело вот в чем: понимание необходимости для литературы быть лично-одухотворенной дается как намек, как проблеск человеку в начале его «пути», затем, при развитии в человеке ума и вкуса, исчезает и только много позже, к концу, к «закату» целиком и во всей полноте к нему возвращается. Настаиваю на естественности перехода от первого состояния ко второму, от обладания, хотя бы и призрачного, к потере. В юности — чувствительность, дилетантизм, невнимание к материалу, формальная беспомощность — в лучшем случае торопливость достигнуть последней цели, каких-то неясно-блаженных последних целей и полет к ним кое-как. Огромное большинство людей остается навсегда на этой ступени: романсы, стишки, картинки «с настроением»… Некоторые развиваются: работа, ученье, «не что, а как», «святое ремесло»,[434] исследования и цехи, чувство слова, чувство ритма, чувство краски. Но в конце концов неизбежно приходит сознание, что все суета сует, все напрасно, тщетно и просто-напросто глупо, если ко второму не прибавить чего-то из первого и не утвердить за этим первым вечного и неоспоримого главенства.
Описанию роста художественного сознания человека надо бы посвятить многие и многие страницы. Эта тема почти еще не разработана, едва ли даже мимоходом затронута (только у Вячеслава Иванова, насколько мне помнится[435]). Моя схема, конечно, груба и прямолинейна. Но я все-таки надеюсь, что люди, уже соскользнувшие с первой ступени, хотя бы только на волосок, поймут, о чем идет речь. Более общедоступным в нескольких строках можно было бы быть только ценой окончательного искажения сути дела.
Оставив в стороне соображения и возражения узко-литературные, признав «несущественным» все то, что хотелось бы заметить в этой плоскости, на одно махнув рукой и закрыв глаза, к другому привыкнув, — нельзя все-таки «без волненья внимать» голосу Марины Цветаевой: читать статью ее «Твоя смерть» (в последнем выпуске «Воли России»).[436] Цветаева обращается к Рильке и о его смерти говорит. Попутно она рассказывает еще о двух смертях — старой француженки-учительницы и больного двенадцатилетнего мальчика. Рассказ крайне прихотлив, неподражаемо — личен и очень увлекателен. Над обычной журнальной литературой он возвышается, как Монблан. В нем исключительно много содержания, хотя, собственно, нет идей и мыслей. Его устремление не логическое, а психологическое. Цветаева подмечает в одном, якобы простом, чувстве или душевном движении множество спорных подразделений. И чем дальше за ней идешь по этому пути, тем яснее видишь, что это путь бесконечный: внутренняя жизнь человека не упирается в нечто неразложимое, а разветвляется и утончается настолько, насколько зрение способно эти деления уловить.
Кроме «психологии», в цветаевском надгробном слове убедителен тон. Очень редко пафос писателя бывает до конца оправдан и совершенно не смешон. Очень редко за ним не ощущается пустоты и не хочется о нем сказать: «слова, слова, слова!». У Цветаевой лиризм по-настоящему лиричен.
Поэтому, как вывод: несмотря на несочувствие Цветаевой-литератору, несмотря на его полную, глубокую и бесповоротную для нас неприемлемость, порадуемся все-таки «встрече с человеком» — что в наши дни редкость. <…>
М. Слоним
Десять лет русской литературы
<Отрывок>{124}
<…> Работа над словом, отказ от легкой музыкальности стиха, попытка возвращения к полновесности слова, к его первоначальной выразительности, любовь к игре словесной и образам, взамен игры звучаниями и туманными понятиями, — эти черты новой поэзии особенно выступают в творчестве наиболее ярких ее представителей — Пастернака, Цветаевой и Тихонова. Правда, о них труднее говорить, чем о совершенно законченном, занимающемся самоповторением Маяковском или умершем Есенине. Они живут и развиваются. Но они определенно тяготеют к «творческому ремеслу», к усиленной и изощренной работе над словом и стихом. Отсюда и новизна их приемов, словообразований и размеров.
Телеграфическая сжатость стиха достигла особенной силы у Пастернака и Цветаевой. Я больше всего ценю лирические произведения Пастернака. В них — своеобразное перемещение плоскостей, делающее их понимание столь трудным для поверхностного читателя. У Пастернака свое «ощущение мира», которое он передает, опуская всякие поэтические подстрочные примечания. Каждый вызываемый им образ принимает в его стихах совершенно реальную форму, а быстрота их чередования дает впечатление кинематографической одновременности: мы разом воспринимаем несколько сторон явления, несколько аспектов неустанного потока действительности.
Пастернак ощутил тяготение нашей эпохи к эпике, и пытался создать большие исторические поэмы: «1905 год» и «Лейтенант Шмидт». Они ему не удались, и только в отдельных местах вновь с радостью находишь прекрасные образцы мастерской и глубокой пастернаковской лирики.
Цветаева, наоборот, выросла в поэта «большого стиля». Патетическому, приподнятому тону ее поэзии гораздо более пристала форма поэмы, чем лирического стихотворения. «Поэма Горы», «Поэма Конца», «Мóлодец», «Разлука» — лучшее, что она написала за последние годы. Эмоциональная окрашенность ее стиха, его романтический порыв и динамика составляют контраст к его словесной лаконичоности и «ударности». Большое мастерство чисто формального рода, искусство поразительной словесной игры, которую так любит Цветаева, не отняли, однако, у ее поэзии ни ее идейной глубины, ни всего ее чисто идеалистического и мятежного характера.
Пафос и движение цветаевской поэзии чрезвычайно характерны для всего десятилетия. Та реакция против символизма, которая наметилась в нашей литературе еще до войны,[437] дала очень своеобразные результаты потому, что завершилась она в период революции. Поэтому уклон от символической туманности — к определенности, от многословия — к сжатости, от музыкальности — к выразительности, от расплывчатости — к полновесному построению, от риторики книжной — к почти разговорному языку — сопровождался еще и некоторыми иными чертами. Вместе с драматизацией стиха пришла и большая эмоциональная его напряженность; динамике языковой соответствует внутреннее движение, полнокровность и почти романтическая страстность поэзии. И в то же время, начиная от Блока, кончая Тихоновым с его великолепной балладой о Махно,[438] в литературу входит широкая национально-народная струя.
Все это и есть отличия той новой поэтической школы, которая народилась за последние годы. К ней примыкает почти все, что есть живого в русской поэзии. Она-то и представляет собою ныне русскую поэзию — при молчании старого поколения символистов (Вяч. Иванов, Сологуб, А.Белый) и при большем или меньшем приближении к ней отдельных талантливых поэтов, начиная от эпиграмматической Ахматовой и национально-романтического Волошина и кончая классически величавым Мандельштамом и умственно-изощренным, холодным Ходасевичем. <…>
Д. Горбов
Десять лет русской литературы за рубежом
<Отрывки>{125}
В одном из библиографических указателей эмигрантской художественной литературы отмечается, что на 1924 г. число изданий художественных произведений за рубежом достигло внушительной цифры 1300. Из этого, правда, нужно вычесть 700 переизданий классиков и произведений, опубликованных в России до революции. Но и за этим солидным вычетом остается 600 книг, выражающих литературно-художественную продукцию эмигрантов за первые 6 лет, протекших с момента революции. Едва ли будет большой ошибкой считать, что к 10-летию Октября это число выросло приблизительно до 1000.
Но прежде всего: существует ли вообще эмигрантская литература как цельное и законченное культурное явление? Не является ли самое это понятие в значительной мере условным? Теперь, когда оно насчитывает уже 10-летнюю давность, не пора ли присмотреться к нему повнимательнее? О зарубежных художественных произведениях у нас уже немало писали (правда, больше от случая к случаю), кое-что из них издано и у нас (так, очень неплохо представлен И.Бунин. У нас издано почти все лучшее, созданное им в эмиграции, — «Митина любовь», «Дело корнета Елагина», «Солнечный удар», «Мордовский сарафан» и другие). Наконец, многое из того, что было эмигрантским, перестало быть таковым: такие писатели, как Алексей Толстой, Гл. Алексеев, Соколов-Микитов, Дроздов[439] и другие давно вступили в ряды советских художников слова, активно участвуют в создании и развитии литературы пооктябрьской России. Все это как будто делает наш вопрос — о цельности, замкнутости понятия эмигрантской художественной литературы — вполне своевременным.