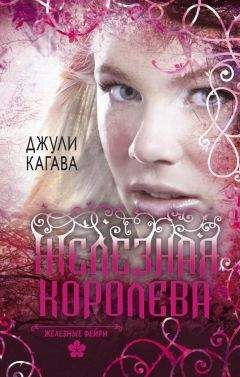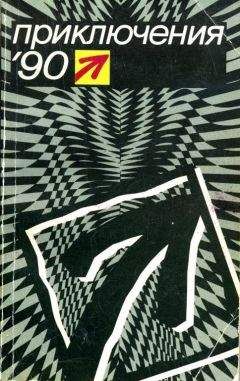Виктор Топоров - Жёсткая ротация
С чего бы это Сталин заговорил в рифму? А вот стихи якобы Симонова (Смельчакова):
Мой друг спешил на мотоцикле…
Река, безлюдье, парапет…
И вдруг увидел юной цапли
Замысловатый пируэт.
О, юность, нежность, липок почки,
Хор лягушачьих батарей!
Девчонка пляшет в одиночку,
Поёт при свете фонарей.
Вышедший в издательстве «Эксмо» тиражом в 30 100 экземпляров (и одновременно — в журнале «Октябрь») роман «Москва Ква-Ква» написан в январе-августе 2005 года в Москве и Биаррице. Про Москву всё ясно; а вот название курорта (и французское гражданство престарелого писателя) поневоле заставляет вспомнить анекдот про Жана и Жаннетту на необитаемом острове: через три месяца она ему надоела, и он её убил. Через полгода — окончательно надоела, и он её закопал. Но через девять месяцев соскучился — и выкопал из песка.
У французов, понятно, свои заморочки, но какой, сказал бы Хрущёв, пидорас выкопал из литературной могилы Аксёнова? А главное, на кой йух?
2006
Их было столько на чёлне…
Недавно встал на полки и лёг на прилавки внушительный энциклопедический словарь «Ленинградский самиздат 1950-х — 1980-х». Встал на полки к людям, в словаре упомянутым (и немногим — да и откуда взяться многим? — собственным неупоминанием обиженным), лёг на прилавки в знатных магазинчиках типа «Борея» или «Академпроекта». Уважительно рецензируется замаскированными и явными участниками давних окололитературных и нынешних паралитературных процессов. Добавлю свою ложку мёду в эту симпатичную бочку. В бочку Данаид, которую наполнишь не раньше, чем сумеешь напоить коня барона Мюнхгаузена, — и, понятно, по той же причине. Мне как раз в словаре статья посвящена. Когда я выразил по этому поводу недоумение одному из составителей Борису Останину (а есть ещё Борис Иванов и Вячеслав Долинин) — я ведь к самиздату никакого отношения не имел, — он пересчитал на пальцах мои заслуги перед литературным подпольем. Ну, допустим… Хотя включили меня в словник, пожалуй, как свадебного генерала и по явной нехватке свадебных маршалов. Как ни слаба (а порой и бесстыдна) была официальная соцреалистическая словесность, её теневой двойник и потенциальный, а затем и фактический дублёр оказался ещё хуже. Годами и десятилетиями наблюдая за деятелями второй литературной действительности, со многими из них выпивая, а с иными — в иные периоды — даже дружа, я отчётливо понимал: ни с кем из них мне в разведку идти не хочется. Меж тем шли они именно в разведку — и сейчас с упоением вспоминают минувшие дни. И битвы, сражаясь в которых выпускали «Часы», «Весы», «Обводный канал» — и чего они только не выпускали! «Эрика» брала четыре экземпляра, «Оптима» — на папиросной бумаге — все девять, а арестам и даже обыскам непременно предшествовали профилактические беседы. Не хотелось мне их и читать — даже на папиросной. Не захотелось и потом, когда кое-кто начал печататься на гербовой и глянцевой.
Помню, в начале 1970-х созвали нас, тогдашнюю литературную молодёжь, в Дом писателя, и какие-то невзрачные дядечки, удручающе похожие на тех, что нынче правят страной, объявили нам, что берут на себя заботу о смене поколений (и просто о Смене!), а для начала просят всех заполнить подробную анкету. В анкете была графа «Жанр», и я вписал туда дядечкам «политическая сатира», но поэт Борис Куприянов (будущий православный священник) меня перещеголял: жанр у него оказался «оригинальным». До «Клуба-81» оставалось ещё десять лет, до Союза писателей — двадцать, до бесславного и бесслёзного забвения — тридцать, и мы все были абсолютно уверены в том, что столько не живут. Беда энциклопедий и хрестоматий такого рода (здесь уместно упомянуть вышедший несколько лет назад пудовый талмуд «Самиздат века»; ленинградцы в нём, впрочем, оказались представлены кое-как) заключается вот в чём: трудятся над ними заслуженно убелённые сединами ветераны движения, тогда как творческий (если он вообще наличествует) и человеческий интерес представляют судьбы короткие и очень короткие, насильственно или своевольно прерванные; молодые посредственности бывают интересны, во-первых, потому что они молоды, а во-вторых, потому что ещё никому не известно, какими посредственностями они в результате окажутся. Но и среди пожилых, непоправимо старых или от старых ран умерших писателей любопытны прежде всего те, кому не хватило расторопности и житейской хватки (в том числе и) на то, чтобы выбиться в андеграудные начальники или хотя бы знаменитости. То есть историю здесь, как и всюду, пишут победители (одержавшие победу над равными и лучшими), а победители всегда врут. Или, точнее, врут как победители.
Энциклопедический словарь составлен людьми добросовестными, но ограниченными. В меру сил объективными, но восторженными. В литературу влюблёнными, но без взаимности или хотя бы шанса на таковую. Собственно говоря, таких в подпольном движении (как и в официальной литературе) всегда было подавляющее большинство. Да и вообще, если бы выдающихся людей было много, они бы не выдавались.
Книга бесценна для изучателей, буде такие найдутся. Для финских диссертаций и свинских застолий. Даже для старческих разборок: вот про меня сколько! А про тебя — вполстолько! А про тебя, чучело, и вовсе ни слова!.. Книга недурна для надувания щёк (только не надо делать этого перед зеркалом). Для поисков «своего места в литературе» или даже — в истории литературы.
Как материал для размышления о встречах и невстречах. О близком и далёком. О чужом и родном и даже, страшно сказать, о показанном и противопоказанном.
Читать её подряд (как по редакторской привычке прочёл я) — невозможно, да и не нужно. Наименее важно здесь многократно в других источниках описанное, трафаретно-аллилуйское, ахматовски-сиротское, бродско-почтительное… В книге имеет смысл осторожно и уважительно, я бы даже сказал, трепетно покопаться, чтобы найти лично тебе неизвестное (или напрочь забытое) — и тогда в ней и впрямь откроется немало интересного.
Откроются бессчётные, хотя здесь вроде бы сосчитанные (а также взвешенные и измеренные) судьбы людей, живших и до сих пор живущих литературой и только литературой (а вовсе не «от» неё, вовсе не за её счёт), служащих ей-Ей! — как Прекрасной Даме, которая, увы, лишена минимального милосердия, не говоря уж о простой бабьей жалости. Судьбы эти, порознь и вкупе и (за редчайшими исключениями) сами по себе, возможно, ничего не значат, но не будь монументального энциклопедического словаря, их как бы и не было вовсе. Поэтому спасибо словарю и его составителям — благое дело сделано, хотя, может быть, и не совсем то, какое было задумано.
2004
«Какой из меня Солженицын в Ясной Поляне?»
Новый роман Виктора Пелевина вышел в издательстве «Эксмо» стартовым тиражом в 150 100 экземпляров. Сотню представительских раздадут критикам; остальные твёрдо намерены продать. А потом посмотрят. Я, правда, в заветную сотню не попал или не дотерпел — и выложил за «Священную книгу оборотня» ровно десять долларов в деревянных. Книга по нынешней моде запечатана в целлофан — не листай в магазине, а хавай что дают, благо, Пелевин это бренд. За те же деньги тебе вручают и CD с саундтреком романа (!) — ну, это я, извините, слушать не стал. Может, и нет там никакого саундтрека, а так, примочка, — не знаю. Когда книга выходит таким стартовым тиражом, коллеги, естественно, завидуют, критики клевещут, но на определённые жертвы приходится идти и автору. Он поневоле адаптирует манеру письма к восприятию массового читателя. Или, скорее, к восприятию издателя книжной продукции для масс. На этом (наряду со многим другим) поскользнулся Борис Акунин и растёкся мысью по древу Владимир Сорокин. Пелевин, похоже, просто умнее — и сумел вывернуться. Но тоже не без потерь. Технику адаптации к массам можно проиллюстрировать на примере борьбы с критиками. С главным пелевинским хулителем Андреем Немзером. В предыдущем романе он фигурирует как литературный критик Недотыкомзер. Оно, конечно, хорошо, но никто не знает Немзера, никто не читал про недотыкомку, да и «литературный критик» — профессия отчасти загадочная. Поэтому в «Священной книге оборотня» появляется пушкиновед Говнищер, он же Шитман (Shitman) — простенько, но со вкусом. Пушкина знают все, говно (shit) — тем более; а кому надо, тот вспомнит, что несчастный Немзер в свободное от непрерывных литературных борений время занимается поэтами пушкинской поры.
Адаптации несомненно подверглось и название книги. Она, конечно, должна была называться по имени главной героини — «А Хули». Так зовут китайскую лисичку-оборотня пяти тысяч лет от роду, занимающуюся священной проституцией в современной Москве. Пока рыжая не влюбляется в генерал-лейтенанта ФСБ, оказывающегося поначалу скандинавским вервольфом, но под влиянием местных условий (главное из которых — любовь к А Хули) мутирующего в простого русского пса. Тоже, правда, оборотня. Генерал и вервольф носят имя Георгий (подразумевается: Победоносец), а пёс отзывается на кличку Пиздец. И наступает… И собирается наступить всему… Во исполнение древнего пророчества о том, что конец света начнётся в городе, в котором разрушат храм, а потом воздвигнут на его месте другой, точно такой же. На протяжении тысячелетий посвящённые полагали, будто этим городом является Иерусалим, однако Юрий Лужков со своим Христом СпасАтелем (шутка из романа; впрочем, похоже, я слышал её раньше) подсуетился первым.