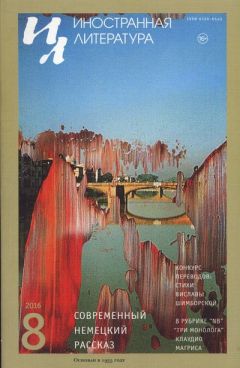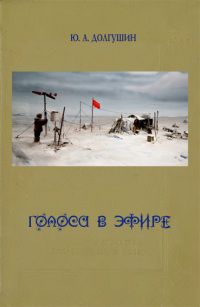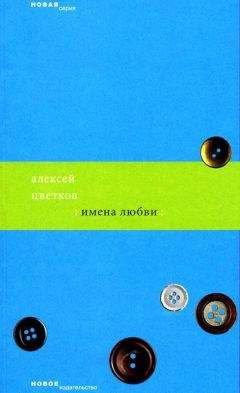Алексей Цветков - Атлантический дневник (сборник)
По мнению Джексона Лирза, Барнем и его многочисленные имитаторы типичны для американской городской атмосферы в канун Гражданской войны. Впрямую заигрывая с мошенничеством, но никогда не переступая грани, Барнем был чем-то вроде популяризатора новой философии тотального скептицизма, ее низведения до уровня улицы. Именно в эту эпоху рушились устои традиционного общества с его готовностью принимать видимость за действительность. Именно тогда и там же родилась профессия фокусника – человека, в принципе не скрывающего, что все его магическое искусство сводится к ловкости рук. Фокусники, конечно же, существовали во все времена, но раньше наивный зритель был склонен видеть в их представлении прямое волшебство, и по сей день фокусники называются по-английски волшебниками, колдунами. Именно поэтому их искусство в старину не слишком поощрялось, а то и прямо преследовалось церковью и властями. Иллюзионист нового времени уже не скрывал, что все его волшебство заключено в проворстве, – точно так же, как на более высоком уровне ученому уже не нужна была личина астролога или алхимика.
П. Т. Барнем был прямым предшественником современного ремесла рекламы с его встроенной двусмысленностью и постоянным подмигиванием. Искушенный мастер рекламы понимает, что далеко не все потенциальные покупатели клюют на беззастенчивое восхваление продукта, и свои отношения с более разборчивой публикой выстраивает именно по модели Барнема, допуская и даже приветствуя сомнение, нейтрализуя его шуткой или трюком.
Эта атмосфера легкой взаимной насмешки, допустимая в балагане или у экрана телевизора, совершенно несовместима с серьезностью ученого трактата, и именно ученые, в том числе уже упомянутые Джеймисон и Лиотар, превратили ее за последние полвека в доктрину повсеместного и принципиального цинизма – то, что мы сегодня называем «постмодернизмом». В процессе такого превращения произошла подмена понятий, которую отмечает Джексон Лирз:
...Мы остаемся лицом к лицу с постмодернистской дилеммой. Метафизика неуверенности была спасительным разрывом с позитивистской ортодоксальностью, которая оказалась слишком хрупкой для удержания текучести реального опыта, в том числе и религиозного. На заре этой культуры неуверенности эпистемологическое сомнение было способом углубления встречи с миром, а не бегством от этого мира. Но в конечном счете, в наше время, ситуация перевернулась: по мере того как сомнение стало условием по умолчанию, реальность стала «реальностью». Метафизика неопределенности дала санкцию на прославление удобно бессмысленных символов, переливающихся в постмодернистской пустоте.
Иными словами, отрицание универсальности мнений и символов постепенно становится отрицанием самой реальности. Интересно, что при всей своей учености и нечитабельности столпы постмодернизма сохранили связь с балаганом и рекламой – они испытывают слабость к массовой культуре, которую, поскольку все, кроме собственного авторитета, в их мире относительно, сладострастно уравнивают в правах с Шекспиром и Моцартом.
Но реальность, по словам философа Уильяма Джеймса, имеет свойство «давать сдачи», а если и терпит поражения, то лишь временные. Один из самых поучительных эпизодов – это строительство так называемого «капитализма» в постперестроечной России; удобнее начать даже с забытых времен НЭПа, потому что есть уже готовый герой. Остап Бендер – это предтеча постмодернизма в стране лохов, где почти все поголовно, за исключением подпольного миллионера Корейки, упорно принимают видимость за действительность. При всей условности романов Ильфа и Петрова в них достоверно изображение пошатнувшегося, но еще вполне традиционного уклада, не готового противостоять постмодернистскому герою. Все здесь еще искренне во что-то верят: лишенцы – в старый режим, комсомольцы – в комсомол, члены профсоюза – в положенное им пиво. По логике повествования, не вмешайся цензура и суровая реальность, Бендер должен-таки был построить свои Нью-Васюки и стать королем мировой шахматной империи, предвосхитив и посрамив реального Кирсана Илюмжинова.
Через 50 лет все, казалось бы, должно было перемениться, но переменилось гораздо меньше, чем ожидали многие. За исключением тонкого слоя затронутой цинизмом элиты, большинство еще не утратило веры хотя бы во что-нибудь, и сомнение вовсе не было главным стержнем мировоззрения. Результатом стало столкновение современного мировоззрения с архаическим обществом – с одной стороны неминуемое разочарование, с другой – объяснимое желание половить рыбу в мутной воде. В конечном счете возобладало мнение, что все политики и предприниматели – жулики и воры, а для честных за этим карточным столом просто не нашлось места. Обсуждать это в тысячный раз и в двух словах бессмысленно, я лишь хочу отметить, что замешательство охватило и интеллектуальные этажи: только в такое время и в такой ситуации некто Анатолий Фоменко может выдавать себя за историка, а некто Андрей Паршев – за экономиста, под массовое одобрение читательской аудитории. Иногда мне кажется, что я различаю в их нелепых трудах подмигивание П. Т. Барнема, но это скорее всего – иллюзия. В России лохотрон перестал быть шуткой и стал средством наживы – как материальной, так и духовной, в плане репутации.
Постмодернизм – это, конечно же, в каком-то смысле идеология капитализма, но, поскольку капитализм, в отличие от несостоятельных утопий, является органическим этапом развития общества, его идеология вовсе не обязана стоять у него на службе – напротив, она прямо ему враждебна. Это отметил еще американский социолог Дэниэл Белл, по моим наблюдениям одним из первых применивший сам термин «постмодернизм» к нашей нынешней культурной ситуации. Однако в России, как ни парадоксально, именно эту агрессию цинизма сегодня принимают за истинное лицо капитализма.
Нынешняя российская ситуация конечно же печальна, а не смешна, и такой же она была во времена юмористов Ильфа и Петрова, хотя литературный жулик намного обаятельнее настоящих. И в том, и в другом случае смысл конфликта заключался в том, что играть по правилам постмодернизма умела лишь одна из сторон, а другая совершенно искренне пыталась понять, под которым из наперстков скрывается горошина, – публика еще не научилась подозревать, что горошина всегда спрятана в кулаке.
Но столкновение иллюзии с реальностью может стать тотальным, и именно в этом заключается главная мысль статьи Джексона Лирза. Реальность дала сдачи 11 сентября. Постмодернистское сознание процветает лишь в атмосфере, где его условности понятны практически всем, как в Америке, – либо отдельными очагами, как в России, где одна из сторон не понимает правил и до поры верит, что с ней играют честно. Тоталитарное сознание исламского и любого другого фундаментализма не верит в мерцание значений и относительность истин, каждая истина для него абсолютна и не подлежит компромиссу. И если допустимо вновь прибегнуть к легкомысленной метафоре, в положении лоха здесь впервые оказываются и Остап Бендер, и сам П. Т. Барнем. Как раз эту ситуацию и разыграли авторы в финале «Золотого теленка», где герой упирается в несдвигаемую скалу советской власти.
Когда мы говорим, что 11 сентября мир резко и навсегда изменился, в нашем утверждении спрятана неявная условная конструкция, суждение по модели «если – то». Мир изменится в том случае, если общество, на которое совершено нападение, найдет в себе ресурсы, еще не разъеденные универсальным цинизмом, который ему прививали на протяжении полутора веков. Сделать это будет невообразимо трудно, потому что традиция и обычай подобны фарфоровой чашке, разбив которую ее уже не соберешь из кусков и не склеишь как новую, а новую в домашних условиях изготовить трудно.
Первый ответ на атаку был практически рефлекторным: Америка вывесила флаги. Но это был и последний ответ, потому что другого в запасе пока нет. Постмодернизм – это изнанка плюрализма, а сражаться до последней капли крови за плюрализм, за право соседа иметь мнение не только отличное от моего, но и прямо ему противоположное, нелегко – мы этого еще практически никогда не пробовали. До сих пор мы всегда сражались за вечное и непоколебимое, подточенное сегодня и Джеймисоном с Лиотаром, и Барнемом с Бендером. Трудно похвалить постмодернизм, но, если мир действительно изменился и мы вновь обретем утраченные и обязательные для всех устои, террористы вправе праздновать победу. Мир должен остаться таким, как есть, с обезьяньей русалкой в балагане и слоном на Бруклинском мосту. Миру важно остаться несерьезным. Каждый, кому вздумается убрать кавычки, пусть делает это для себя и по собственной воле.
КРАСНЫЙ КНЯЗЬ
Два с лишним десятка лет назад, когда я постигал в американской аспирантуре российскую филологию, программа во многом совпадала с советской, за естественным исключением идеологических дисциплин, всех этих вариантов научного утопизма и обскурантизма. Но кроме этих сомнительных минусов были и несомненные плюсы, замечательная научно-критическая литература русской эмиграции, в ту пору закрытая для бывших соотечественников, запертая в бункерах спецхрана, а то еще и в чужом языке. Это были работы Константина Мочульского, Петра Бицилли и многих других, но жемчужиной всей этой коллекции была, несомненно, «История русской литературы» Дмитрия Мирского, написанная в середине 20-х годов и, в отличие от десятков произведений подобного рода, не утратившая ценности и уникальной свежести по сей день. Думаю, что даже сегодня эта книга известна в России гораздо меньше, чем того заслуживает.