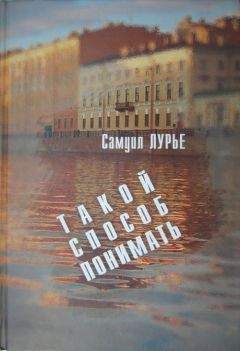Самуил Лурье - Железный бульвар
Я много лет понимал ее (наверное — правильно) в смысле самом простом: нам, гагарам, практически недоступны наиболее ценные вещи XX века (отчего, между прочим, римские цифры и читались: Ха-Ха). Вещи, которые придают современности некоторую, что ли, важность. Или прелесть. И включают ее в историю, как небессмысленную главу. И главное, скрашивают каждому его личный срок, вообще-то невеселый, не говоря уже — краткий. Мол, я все-таки недаром жил именно в это время, тоже и на меня отчасти пролился блеск просиявших в нем звезд, — разумеется, исчезну без следа, но все-таки стоило поприсутствовать, ведь я одним из первых узнал то-то и то-то, и вкусил, и оценил, и понял…
А то — ну что, в самом деле — как мне сказать на тем свету (если вдруг спросят, что, конечно, вряд ли): дескать, жил на Земле в одно время с Чарли, допустим, Чаплином, — если впервые увидел «Диктатора» через 60 (прописью: через шестьдесят) лет после остального человечества? С Джойсом или, там, Кафкой, допустим, я сам виноват: кто мешал выучить языки? (а в первый круг спецхрана, глядишь, и пробился бы) — но как насчет якобы современной мне философии? насчет живописи? насчет лженауки кибернетики? Да что науки! Впервые человек прошелся по Луне тоже в якобы мое время, — и глазком на это не позволили глянуть обитателю столетия Ха-Ха.
Одно утешение — «Чевенгур» я прочитал (и то лишь потому, что посчастливилось необычайно, из ряду вон!) хоть и через полвека после того, как Платонов написал, но лет за двадцать до того, как напечатали. Тут я, значит, иностранцев обошел.
А зато они нас всех — с «Доктором Живаго»! На целых тридцать два года! Они там сняли культовый фильм, написали полторы тысячи научных работ, — а родина, которую прославил великий писатель, произвела за тот же промежуток времени одну-единственную о нем идею (статья изъятого Синявского не в счет): что напрасно многие товарищи сравнивают Пастернака со свиньей, потому что свинья, в отличие от Пастернака, не гадит там, где кушает (это буквально), — в собственном то есть гнезде (тоже буквально, я своими ушами слышал по радио).
Так изволили сформулировать лично тов. Семичастный, председатель КГБ, сорок пять лет тому.
Да, ровнехонько сорок пять лет назад присудили Борису Пастернаку Нобелевскую премию за выдающийся вклад в мировую лирику. И тотчас, не теряя ни минуты, тов. Семичастный вкупе с организованной группировкой т. т. Сергеев Михалковых принялись вгонять лауреата в гроб.
А когда вогнали — контора удумала потрясающую штуку. Под скамейкой, что стояла у могилы поэта на Переделкинском кладбище, пристроили микрофон. А записывающее устройство — за надгробной плитой. (Шнур, естественно, прикопали.) Над прахом властителя тайных дум (прибавим к всемирной славе — подпольную) люди, расслабившись, рассуждают о подобающих месту предметах. Судьба России, литература, Бог, — все такое. Причем с искренностью, на допросе и то недостижимой. А тут — поручи аккуратному исполнителю регулярно менять кассеты, всего и делов. И так сорок лет подряд труп гения служил отчизне — в лице тов. Семичастного и преемника его тов. Андропова — наподобие приманки в мышеловке.
Потом эта история всплыла (проболтался аккуратный исполнитель), но скамейку, знаете, отремонтировать недолго. И с исполнителем разобраться. И вот уже, скажем строчкой Бориса Леонидовича, — «никто не помнит ничего».
Действительно, мы не современники. Не то что Борису Пастернаку или, предположим, Венедикту Ерофееву, а даже и сами себе. (Вот помяните мое слово, будем еще уверять внуков, что умиротворение Чечни происходило не при нас, что мы ни сном ни духом и т. д.) Как выяснилось — и если вдуматься, — это касается не одного лишь дефицита культурных витаминов. Оболванивание — не пустое слово, а планомерный процесс, конечным продуктом которого становится не просто неумный невежда, но именно болван, существо бесчувственное. По-видимому, партия, правительство, ленинский комсомол и пионерская организация, не говоря о главных органах, взяли на вооружение дефиницию (Аристотеля, что ли?): человек — животное политическое. Подразумевается — в отличие от раба. Отсюдова эрго: загасите какую-то ничтожную долю мозга (где так называемое гражданское беспокойство) — и перед вами разнообразно похотливое, но, в общем, послушное дитя. Из пеленок в саван плетущееся как бы сквозь тусклый полусон. Это тоже отмечено доктором Живаго:
«…Вообще говоря, всеми за последнее время овладело удивительное равнодушие, которого прежде в России не знали. Эта бесчувственность развилась незадолго до войны и за ее время усилилась. Ничего подобного радикализму Герцена, спорам Толстого с жизнью и Гаршинским „Четырем дням“ уже нельзя было встретить. Не имея сил победить свою нравственную вялость, тысячи мыслящих и образованных людей молча сносили, как изо дня в день извращали их собственные чувства и мнения именем народа, ничего этого не подозревающего и к этому непричастного, и все сваливали на него и все им оправдывали».
ПРЕДСКАЗАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
3 ноября 2003
Пятьдесят лет прошло с того дня, как умер в Париже Иван Бунин, русский гений.
Мы, бывает, посмеиваемся, не без горечи, над знаменитой размашистой фразой: что в сочинениях Пушкина, дескать, выразился русский человек «в конечном его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет». Посмеиваемся: не угадал Николай Васильевич, восторженность подвела. Вот уже почти что на исходе предсказанный срок, а попал бы Гоголь на минутку в современность, взглянул бы на потомков одним глазком — не разбирая дороги, кинулся бы к себе в Донской, затаиться навеки под черным камнем.
А на самом-то деле он как раз угадал. То есть ошибся намного, но в другую сторону. Предсказанный им человек, сделав для нас все, что мог, умер 8 ноября в городе Париже, обзавелся собственным черным камнем на Сент-Женевьев-де-Буа.
Единственно Бунину было дано — или предназначено — передать русскими буквами то состояние, ради которого, наверное, только и стоит быть человеком: когда понимаешь реальность всеми чувствами сразу, причем все они до предела обострены, работая сверхстремительно и согласно.
И это нестерпимое наслаждение — осознавать подлинность сущего, вбирая в себя его прелесть и глубину. Как если бы жизнь была мучительный рай без единой помарки, прозрачная насквозь, насквозь пронзая…
Да что я бормочу. Как будто сами не знаете. Раскрываем Собрание сочинений на любой странице — клянусь, раскрываю наугад! — и вот, пожалуйста. Хоть и нелепо переписывать, но перепишу, чтобы напомнить это состояние абсолютной полноты, когда в любой частности — вся жизнь. Все равно чья. Когда читаете — ваша.
«От холода, от ледяной сырости воздуха большие руки его посинели, губы стали лиловыми, смертельно-бледное лицо с провалившимися щеками приняло фиолетовый оттенок. Он лежал на спине, положив нога на ногу, а руки под голову, дико уставившись в черную соломенную крышу, с которой падали крупные ржавые капли. Потом скулы его стискивались, брови начинали прыгать. Он порывисто вскакивал, вытаскивал из кармана штанов уже сто раз прочитанное, испачканное и измятое письмо, полученное вчера поздно вечером… и опять, в сто первый раз, жадно пожирал его: „Дорогой Митя, не поминайте лихом, забудьте, забудьте все, что было! Я дурная, я гадкая, испорченная, я недостойна вас, но я безумно люблю искусство! Я решилась, жребий брошен, я уезжаю — вы знаете с кем…“»
Припомнили? Ведь никакого такого особенного словесного мастерства, и сюжет — не новость, и психология — дело прошлое…
А сила вся в том, что вы разом попадаете в особенное пространство, сплошь из резких, отчетливо говорящих подробностей. Каждая — в фокусе, от каждой — укол смысла. И если у вас хватит воли оторваться от текста и оглядеть помещение — вы поразитесь: насколько все вокруг бледней, тусклей.
Этим вот многоочитым бунинским зрением Россия увидела себя всю, в первый раз и в последний.
Понадобилась именно такая биография — чтобы родовитый дворянин был нищим недоучкой, перекати-полем, — не забудем и деревенское детство, и провинциальную молодость, и внезапную столичную славу, и дружбу Чехова, и приязнь Льва Толстого, а также добавим счастья и несчастья донельзя, через край…
Кажется, только таким образом и могло случиться, что один человек проник в мысли огромной страны — почувствовал, о чем она молчит, — с тоской и ужасом догадался, что вот-вот взорвется и потеряет человеческий облик.
Прекрасная Родина больна. Населена безумными дикарями.
Помните, как в «Деревне» она сама же себя честит:
«— Ты подумай только: пашут целую тысячу лет, да что я! больше! — а пахать путем — то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! „Как люди, так и мы“, — только и всего».