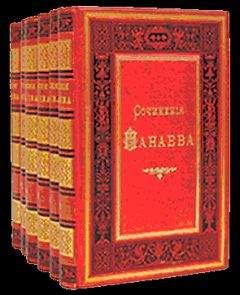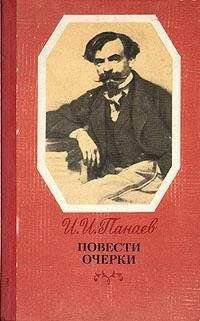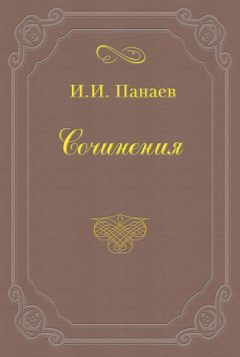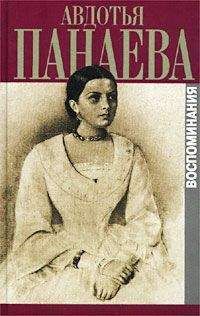Иван Панаев - Литературные воспоминания
В Грановском не было тени педантизма закоренелых ученых, — он, впрочем, и не принадлежал к так называемым ученым в строгом смысле; он был одним из самых талантливых и изящных дилетантов науки. Он не изгонял остроумной шутки из области литературы, не презирал и не преследовал ее, как это делают тупоумные мудрецы; напротив, остроумная пародия, ловкая и забавная шутка очень нравились ему и заставляли его смеяться от всей души.
Кузьма Прутков, которого он прочитывал у меня еще в корректурах, забавлял его целый вечер, он знал наизусть некоторые из его лучших афоризмов и любил повторять их…
Чувство такта и меры в оценке литературных явлении никогда не покидало его. Ему очень нравились, например, "Записки Багрова" С. Т. Аксакова; но когда Аксаков возведен был в литературные патриархи, Грановский смеялся над этим… Через два года, после выхода «Воспоминаний» Аксакова (это было на вечере у Арапетова) Грановский довольно резко остановил П. В. Анненкова, придававшего преувеличенное значение Аксакову.
— В том, — сказал он, — что Аксаков в последнее время обнаружил замечательный талант — об этом никто не спорит, но для чего вы хотите делать из него кумир? Конечно,
"Воспоминания" Аксакова повыше «Записок» Жихарева. Аксаков прекрасно владеет языком — это бесспорно, но вы ставите его, господа, на такую недосягаемую высоту, которая вредит ему и делает его смешным.
Беседа Грановского, всегда исполненная тонкого ума, внутренней теплоты, чувства гуманности, симпатии ко всем живым явлениям современности, не имевшая в себе ничего блестящего, но освещенная тихим, ровным поэтическим колоритом, производила всегда отрадное впечатление на его слушателей, возбуждала их привязанность и укрепляла в них сочувствие к нему… Но иногда Грановский, затронутый за живое, являлся в ином, более ярком свете: в нем проявлялась необыкновенная сила, в глазах загоралась энергия, речь его лилась быстрым потоком и даже принимала не свойственный ему желчный и иронический колорит.
Таким, впрочем, я видел его всего один раз, на квартире у Корша в Петербурге. Это было в последний приезд его в Петербург.
Надобно сказать, что Корш, несмотря на свой колкий ум, быстро схватывавший в других все странное и смешное, имел какое-то пристрастие к Москве и ко всему московскому. Не разделяя вовсе славянофильских воззрений, над которыми он постоянно тешился, Корш жил и дышал только воспоминаниями о Москве. В Петербурге ему было нехорошо, неловко, скучно. Он беспрестанно рвался к Москве и стонал по ней. Этою слабою своею стороною он даже немного надоедал своим приятелям…
Корш имел в Петербурге положение довольно хорошее (он был тогда при редакции "Журнала министерства внутренних дел" и заведывал журналом с тех пор, как Надеждин был разбит параличом); положение его после смерти Надеждина должно было значительно улучшиться, но, несмотря на это, Корш рвался в Москву и охотно готов был бросить Петербург на какие-то московские надежды и фантазии. Это бесило Грановского, который очень любил Корша и принимал глубокое участие в его многочисленном семействе. С сестрой Корша Марьей Федоровной он был связан тесной дружбой.
Я заехал к Коршу нечаянно и нашел у него довольно большое собрание, обычный хвост кружковых петербургских доктринеров, всюду таскавшийся за Грановским во время приездов его. Все сидели за длинным чайным столом. У Корша самовар почти никогда не сходил со стола…
Стоны Корша о Москве и его толки о том, что жить можно приятно и независимо только в Москве, что только в Москве ум, знание, радушие и все возможные добродетели, раздражили Грановского. Он одушевился и начал оспоривать мнение Корша. Начала речи его я не застал…
Когда я взошел в комнату и взглянул на Грановского, я как будто увидел перед собою нового человека или, по крайней мере, совсем преображенного. Внутренний пыл ярко отражался в его благородных, прекрасных чертах, в которых мелькала грустная, но едкая ирония; даже в голосе его была не свойственная ему энергия. Я никогда не слышал, чтоб речь его лилась так звонко, горячо и свободно (Грановский говорил обыкновенно тихо и запинался в разговоре и на кафедре). Я никогда не видал его таким прекрасным и таким вдохновенным, как в эту минуту.
Изредка и вяло прерываемый Коршем, он говорил часа два сряду. Каждое его слово в этот вечер надобно было стенографировать. Он доказывал, что Москва отживает, то великое и неоспоримое значение, которое она имела некогда для России, что, напротив, значение для России Петербурга, в ущерб Москве, обнаруживается с каждым днем более и более и что Петербургу предназначено играть со временем большую роль в судьбах нашего отечества; что русский человек развитый и мыслящий еще несколько свободнее может жить из всей России в одном только Петербурге…
— Если бы не моя привязанность к Московскому университету, — говорил он, — я ни одной минуты не остался бы жить в Москве, — и что такое для меня, для тебя и для всех нас Москва без людей, дорогих нашему сердцу, кровных нам по убеждению, по мысли? Москва дорога мне по одним воспоминаниям об этих людях… С этой барской, пошлой, тупоумной Москвой, представителем которой является Английский клуб; с этой апатичной, ленивой Москвой, которая только спросонья важничает и, как старая баба, хвалится своим древним родом, своими прежними заслугами, толкует по старой памяти о своем умственном превосходстве, нелепо хвастает какою-то будто бы независимостию, которую приобрела она, — с этой Москвою я не могу, не хочу и не должен иметь ничего общего… И какая независимость в Москве? Москва, как все русские провинциальные города, подчинена произволу и прихоти начальствующих лиц. Хороша независимость при Закревском, перед которым все трепещут и который распоряжается всеми нами, как турецкий паша! Всякий произвол и гнет, конечно, тяжел, но прямо идущий от барина он все-таки более сносен, чем произвол холопа, всегда разбивающего себе лоб от излишнего усердия… Медному холопскому лбу ничего не делается, но каково другим, подчиненным этому медному лбу!.. В Москве могут жить хорошо теперь только люди остановившиеся, обеспеченные, отживающие. Человеку с свежими силами, с неостывшей энергией, с жаждою деятельности — в Москве делать нечего. Такого человека не может удовлетворить одно только бесплодное возвращение к своему прошедшему, эгоистическое наслаждение своими воспоминаниями; ему некогда праздно оглядываться назад, он стремится вперед и вперед… Ему должно казаться нестерпимым это бездеятельное, тупое самодовольствие, в которое погружена Москва. Такое самодовольствие есть несомненный признак отсталости и дряхлости…
Грановский никогда так сильно и резко не высказывал своих убеждений относительно Москвы. Корш был поражен и смущен его словами, которые, однако, не убедили его, а только раздражили: во весь этот вечер он был сам не свой и не отпустил ни одной колкости или остроты…
Могло ли мне прийти в голову, что я не услышу более Грановского, что ужин, который накрывали, был для некоторых из нас последнею, прощальною нашею трапезою с Грановским перед вечной разлукой?..
Вино как-то не пилось, Грановский был в волнении после своего разговора, Корш не в духе, все чувствовали невольно какую-то безотчетную грусть…
Грановский после ужина долго говорил с Марьей Федоровной в стороне… Наконец обнял всех и простился…
На другой день с первым поездом железной дороги Грановский уехал в Москву…
Это было в конце февраля 1855 года (если я не ошибаюсь), а 4 октября этого же года Грановского не стало…
Больная жена его, дни которой давно уже были сочтены, имела несчастие пережить его, но ненадолго…
В течение пятнадцати лет (с 1839 по 1855) Грановский боролся на кафедре с различными препятствиями, с величайшим трудом проводя независимую мысль, одушевлявшую его. Он носил в душе глубокий протест против старого порядка, грозно поддерживавшегося одной физической силой, и несмотря на то, что этот протест выражался в его лекциях и в его статьях в свойственных его характеру формах, деликатных и мягких, — влияние его на молодое поколение все-таки было очень сильно… …В минуты безвыходного отчаяния Грановский говорил: "Благо Белинскому, умершему во-время!" — "Сердце ноет при мысли, чем мы были прежде и чем стали теперь!" Падая духом, охладевая к своим трудам и обязанностям, он хотел заглушать свои внутренние страдания, как мы видели, бурной жизнию игрока; но его чистая, благородная натура спасала его… и он измученный, разбитый, надломленный возвращался снова к своему долгу, говоря: "ведь еще кое-что можно делать"…
Но эта борьба, но эти страдания, доводившие его до отчаяния и падения, сокрушили его и без того непрочное здоровье и ускорили его кончину. Еще будучи в Берлине, в конце тридцатых годов, он жаловался, впрочем, на боль в груди.* *Это видно из писем к Грановскому Станкевича, помещенных г. Анненковым в его биографии Станкевича.