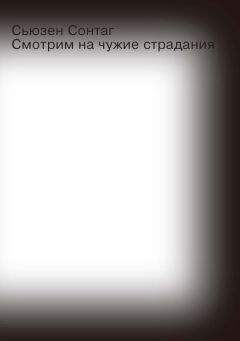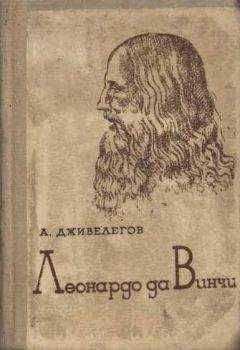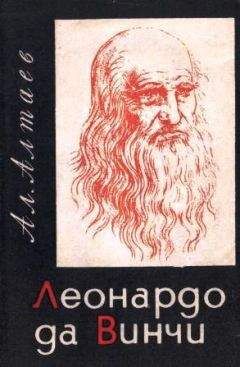Полимат. История универсальных людей от Леонардо да Винчи до Сьюзен Сонтаг - Берк Питер
Эмиль Дюркгейм, например, выражал тревогу по поводу того, что «социологию могут заполонить шарлатаны», и критиковал своего соперника, полимата Габриеля Тарда, как «любителя» [615]. Про Кеннета Боулдинга кто-то написал, что «им восхищались как экономистом те, кто сами экономистами не были» [616]. Исайя Берлин характеризовал Майкла Полани как «великого ученого», который бросил науку, чтобы писать «посредственные работы по философии» [617]. Алан Тьюринг называл шарлатаном своего коллегу-полимата Уоррена Мак-Каллока [618]. Льюис Мамфорд тоже отмахивался от полиматов Бакминстера Фуллера и Герберта Маршалла Маклюэна как от шарлатанов [619]. Британский историк Эдвард Томпсон, сидя как-то в парижском кафе с Карло Гинзбургом, сказал, что «Фуко – шарлатан» [620]. Ноам Хомски назвал французского психоаналитика Жака Лакана «полным шарлатаном» [621]. Когда у Исайи Берлина спросили, что он думает о Жаке Деррида, он не мог удержаться от соблазна ответить оксюмороном: «Думаю, что он, пожалуй, чистейший шарлатан, хотя и умный человек» [622]. Похожая критика (иногда от журналистов) порой раздавалась в адрес Джорджа Стайнера и Славоя Жижека [623]. У слова «шарлатан» есть то преимущество, что оно объединяет целый ряд отрицательных понятий, среди которых высокомерие, поверхностность, невыполнение обещаний и игра на публику.
Именно «позирование перед телекамерами» больше всего раздражало Хомски в Лакане, хотя к тому времени уже многие интеллектуалы, включая Стайнера, Слотердайка и Жижека, вышли на эту новую сцену.
Петер Слотердайк, защитивший докторскую диссертацию по немецкой литературе, распространил сферу своих интересов на философию, географию, экологию и теорию медиа и пишет статьи для газет на такие актуальные темы, как государство всеобщего благосостояния, терроризм и глобализация. Его суждения вызывают неоднозначную реакцию, особенно те, в которых он критикует ныне живущих представителей Франкфуртской школы, сбрасывая их со счетов как обыкновенных академиков. Что до собственной учености Слотердайка, то даже дружественно настроенный критик как-то назвал его «интеллектуальной трещоткой». Как и Сьюзен Сонтаг, Слотердайк говорил о социальных и политических проблемах языком литератора и с позиций литератора, фокусируясь на повествовании и метафорах и иллюстрируя свои аргументы цитатами из романов [624].
Жижек, начавший карьеру с защиты двух докторских диссертаций, по структурализму и по психоанализу, пишет также о социологии, политике и кинематографе. Подобно Эко и Сонтаг, он любит сопоставлять высокую и массовую культуру [625]. Игривый, как у Жака Деррида, стиль его текстов побуждает критиков называть его «шарлатаном», «комедиантом» или «одним из братьев Маркс» [626].
Часть этих критических замечаний, возможно, справедлива, но многие безосновательны. Вряд ли можно в наши дни быть публичным интеллектуалом, не появляясь на телеэкранах. За такой критикой скрывается допущение, что любое притязание на обширные знания является мошенничеством, и это допущение становится все более очевидным по мере усиления специализации.
Пожалуй, новым, характерным только для XX столетия явлением стали периодически высказываемые сожаления самих полиматов о диапазоне собственных знаний. Эндрю Лэнга часто называли «разносторонним человеком», но именно это «он хотел слышать меньше всего». Однажды он сказал: «Если бы я остановился на чем-то одном… я, должно быть, стал бы важной фигурой в антропологии» [627]. Одним из разнообразных противоречий в жизни и работе Макса Вебера был внутренний конфликт между универсальным ученым и специалистом. Он работал над большими проектами, но в одной из своих самых знаменитых лекций сказал: «Ограничение себя специальной задачей, подразумевающее отказ от фаустианской универсальности человека, является условием любой стоящей работы в современном мире» [628].
Несмотря на возможные недостатки, достижения всех или, по крайней мере, многих из упомянутых полиматов заслуживают восхищения. Возникает вопрос: как они смогли сделать все это? Ответ на него мы будем искать в следующей главе.
6
Групповой портрет
Являются ли полиматы особым типом человеческой личности? Почему они выбирают именно такой жизненный путь и что этому способствует? Настала пора выделить некоторые общие характеристики этого «вида», обобщив результаты анализа, выполненного в предыдущих главах, и предприняв попытку синтеза. Такой синтез неизбежно будет лишь ориентировочным, поскольку полиматия, в отличие от креативности, до сих пор не была предметом систематического изучения со стороны когнитивных психологов. В любом случае сведения о ранней молодости полиматов слишком часто отсутствуют.
И тем не менее повторяющиеся свидетельства о наборе определенных качеств, встречающиеся в автобиографиях и воспоминаниях друзей и родственников, дают основания хотя бы для предположений. Многие из этих качеств в какой-то мере свойственны и другим ученым, но некоторые особенно значимы для полиматов: можно сказать, что у них эти черты проявлены в высшей степени. Ниже мы обсудим их, нарисовав групповой портрет в стиле пуантилизма – коллективный образ, составленный из множества мелких кусочков информации. Некоторые из этих качеств, в частности любознательность, хорошая память и выдающиеся творческие способности, могут быть генетически обусловленными (одним из важных генов в этом случае, возможно, является так называемый нейротрофический фактор мозга, BNDF (brain-derived neurotrophic factor).
Интересы, способности и достижения полиматов формируются также под воздействием воспитания, среды и эпохи, о чем пойдет речь в следующей главе, которая называется «Среда обитания». Нет нужды говорить, что провести черту между психологическим и социальным трудно, ведь это не столько граница, сколько пограничная область, обладающая собственными характеристиками. В любом случае мой главный тезис заключается в том, что полиматы добиваются успеха не только благодаря своим личным качествам. Им также нужна подходящая ниша.
Любознательность
Возможно, существует ген любопытства. По крайней мере, группа исследователей из Института Макса Планка действительно обнаружила так называемый ген любознательности, Drd4 (Dopamine Receptor D4), у птиц – больших синиц [629]. В случае с человеком ответа на этот вопрос пока нет. Более того, избыток любознательности, издавна известный как libido sciendi и описанный Роджером Бэконом как «ненасытная пытливость», определенно является самой общей и самой очевидной особенностью изучаемого типа.
Современные исследователи Леонардо да Винчи, основываясь на его объемистых записных книжках, часто упоминают о любознательности Леонардо, называя ее «всепоглощающей», «страстной», «навязчивой» и даже «неотступной». Полиматы нередко характеризовали себя подобным образом. В XVII веке монахиня Хуана де ла Крус, например, объясняла епископу Пуэблы свою потребность в приобретении знаний. Пейреск говорил об «избытке» своей любознательности [630]. Пьер Бейль описывал себя как человека, «испытывающего жажду знать все» (affamé de savoir tout). Пьер-Даниель Юэ упоминал о своем «бесконечном желании учиться» (infinitum discendi desiderium) и, вспоминая о прошлом, писал: «Я считал, что ничего не узнал, если видел, что изучил вопрос не до конца» [631]. В своей пуританской юности Исаак Ньютон просил у Бога прощения за то, что «сердцем больше стремился» к учености, чем к Нему [632]. Бенджамин Франклин описывал «жажду знаний», свойственную ему в детстве [633]. Александр фон Гумбольдт признавался в своей «неодолимой тяге к знаниям всех видов».