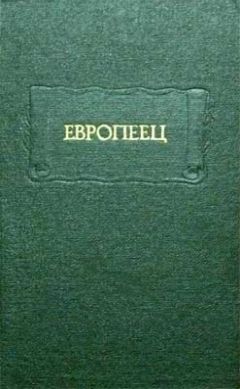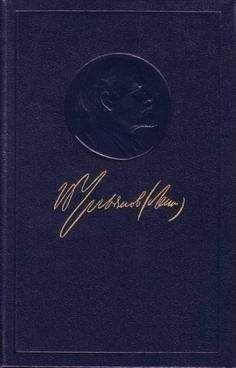Иван Киреевский - Европеец
Екатерина II действовала в том же духе, в каком работал Великий Петр. Она также поставила просвещение России целью своего царствования и также всеми средствами старалась передать нам образованность европейскую. Может быть, средства сии были не всегда самые приличные тогдашнему состоянию России; но, несмотря на то, образованность европейская начала распространяться у нас видимо и ощутительно только в царствование Екатерины, Причина тому заключается, по моему мнению, не столько в том, что Екатерина нашла в России уже много приготовленным, сколько в том особенном направлении, которое просвещение Европы начало принимать в половине восемнадцатого века.
Мы видели, что с половины восемнадцатого века просвещение в Европе приняло направление, противуположное прежнему. Новые начала и старые явились в борьбе, различно измененной, но всегда одномысленной. Мы видели, что в науках, в искусствах, в жизни, в литературе — одним словом, в целой сфере умственного развития Европы — новые успехи60*, хотя были последствием прежнего развития, но, несмотря на то, принимали характер противуположный ему и с ним несовместимый, как плод, который родился и созрел на дереве, но, созрев, отпадает от него и служит семенем нового древа, которое вытесняет старое.
Для большего пояснения возьмем еще несколько примеров. Нет сомнения, что изобретение паровых машин есть следствие европейского просвещения, что оно благодетельно для рода человеческого вообще и для будущих успехов промышленности. Но настоящее состояние промышленности европейской, которое также есть следствие предыдущего, противуречит успехам сего изобретения. Миллионы людей должны искать новых средств к пропитанию, между тем как средства сии и без того затруднены следствием прежнего устройства промышленности. Но паровые машины еще в начале своих применений; еще тысячи новых работ будут заменены ими: какой же сильный переворот должен произойти в промышленности европейской! Какое противуречие между прежним порядком вещей и новыми успехами просвещения!
То же, что и о промышленности, можно сказать и о юриспруденции. Римские законы, мы видели, были основанием образованности и началом законного порядка. Но польза их уже кончилась, и теперь они являются в противуречии с потребностями гражданского устройства. Между тем во многих государствах они имеют силу живую и не могут быть заменены иначе как с совершенным преобразованием уложений.
Внешнее устройство римской церкви было первым источником европейской образованности; но именно потому формы сего устройства должны были совершенно соответствовать тому времени, в которое они произошли. Естественно, что с изменением времени и формы сии в некоторых государствах во многих отношениях не совмещались с новыми потребностями. Оттого явились реформации, нарушившие единство европейской церкви, а в некоторых землях водворилось совершенное безверие, которое с трудом побеждается теперь успехами светского просвещения. Так образованность европейская является нам в двух видах: как просвещение Европы прежде и после половины восемнадцатого века. Старое просвещение связано неразрывно с целою системою своего постепенного развития, и, чтобы быть ему причастным, надобно пережить снова всю прежнюю жизнь Европы. Новое просвещение противуположно старому и существует самобытно. Потому народ, начинающийся образовываться, может заимствовать его прямо и водворить у себя без предыдущего, непосредственно применяя его к своему настоящему быту. Вот почему и в России и в Америке просвещение начало приметно распространяться не прежде восемнадцатого в особенно в девятнадцатом веке.
Сказанное нами достаточно для того, чтоб вывести все нужные результаты и данные для определения настоящего характера нашей образованности и ее отношений к просвещению общечеловеческому. Но мы предоставляем сделать сей вывод самим читателям, ибо, если нам удалось изложить наши мысли ясно и убедительно, то результаты их очевидны. Если же, читая статью сию, читатели не разделили нашего мнения, то и последствия сего мнения покажутся им произвольными и неосновательными.
VII. Эпиграмма
Кто непременный мой ругатель?
Необходимый мой предатель?
Завистник непременный мой?
Тут думать нечего: — родной!
Нам чаще друга враг полезен:
Подлунный мир устроен так;
О как же дорог, как любезен
Самой природой данный враг!
Е. Баратынский
VIII. Талейран
Мы часто в людях необыкновенных замечаем желание разыгрывать роль; Александр и Юлий Кесарь в высшей степени подчинены были этой страсти. Плутарх рассказывает нам, что Кесарь на корабле разбойников сочинял стихи и декламировал речи[1]. Искусный политик Болингброк[2], одаренный всеми способностями литератора, играл мелодраматическую смесь ветреного повесы с философом. Это театральное расположение заметно в самом отличном ораторе Английской трибуны61*; оно разительно в лорде Байроне, и если можем утверждать, что оно же составляет главную страсть описываемого нами великого человека, то сознаться должно, что немногим дано было поприще благоприятнее для развития своей склонности. Министр Людвига XVI-го[4]— Директории — Империи — восстановления — и, наконец, Короля-гражданина[5],— все свои различные роли разыгрывал Талейран с одинаким успехом.
Нельзя не удивляться той счастливой сметливости, с которою он переносил политическую свою приверженность от одного предмета к другому; той приятной легкости, с которою принимал сторону сильного при каждой перемене, оставляя побежденного в самое приличное время для поддержания победителя, всегда так кстати, что поступком своим не удивлял никого. Мы не станем слушать врагов его: они многочисленны; все те, коих счастие погибло в бурю переворотов, отзываются нелестно о Талейране, всегда счастливо приводящем к пристани легкий челн свой. Но Талейран имеет друзей. Все, составляющие близкий круг его, очарованы остроумием, неистощенным преклонными летами; в легком, веселом его взгляде на все земные события, замечают прозорливость ума я часто основательность правил, существующих в одних только истинно глубоких мыслителях. «Тот еще не очень хитр, — говорит Ларошфуко, — о хитрости которого знают другие». Секретарь Департамента иностранных дел[6] короля Великобритании, готовясь к совещанию с Талейраном, ожидал разговора легкого и таинственного; ожидал человека осторожного, тонкого, хитрого, неприметно опутывающего своими сетями. Но увидевши, с каким чистосердечием Талейран говорил с ним, как заботливо повторял слова свои, чтобы растолковать мысли, как добросовестно выслушивал возражения, не мог скрыть своего удивления и объявил, что имел ложное понятие о великом дипломате; что он человек прямодушный, искренний, с которым легко и приятно вести дела… И однако Талейран мог показаться таковым своему товарищу, не переставая быть человеком хитрым, и очень хитрым.
Известно, что сказала г-жа Сталь[7] о Талейране. Г-жа Сталь, столько же неумеренная в дружбе, сколько и ненависти, не упускавшая никогда случая превозносить отца своего или любовника, — не могла простить неблагодарному другу. В первое время революции Талейран был в Америке[8]; он возвращался во Францию, когда окончилось уже царство Робеспиера, и Баррас[9], старинный дворянин, глава Директорий, старался возвратить обществу Парижа сколько-нибудь той изящной учтивости, которая украшала последний дни монархии. Общество в это время было составлено из разнородных стихий: первые места занимали в нем люди деятельные и предприимчивые. Несчастия минувшие, опасность еще не прошедшая внушали жажду наслаждений, скоротечных и неверных, как текущая минута, и препятствовали водворению тонкого вкуса и нравственности. Баррас посреди двора своего, украшенного присутствием г-жи Тальень[10] и г-жи Богарне (Жозефины)[11], и г-жа Сталь, блестящим умом привлекавшая все заметные дарования того времени, — составляли два центра самовластного парижского общества. Доказательством важности их могут служить те усилия, которые употреблял Бонапарте, чтобы в них быть принятым и им нравиться. Талейран был старый знакомый г-жи Сталь: частые посещения его поддерживали приязнь. Одаренный тою утонченною ловкостью, которая начинала уже входить в моду; обладая в самой высшей степени всеми дарованиями, нужными для самых важных государственных мест, прежний епископ[12]имел блестящие успехи во всех обществах, но не находил должностного места в Республике. К тому же денежные его обстоятельства весьма были в худом положении; уже в Америке принужден он был заложить часы свои. Однажды приходит он к г-же Сталь гораздо ранее обыкновенного, вынимает кошелек, показывает 20 франков, в нем лежащих, и говорит ей: «вот все мое имение, а жить надобно; если вы ничего не можете для меня сделать, то мне остается броситься в Сену»[13].