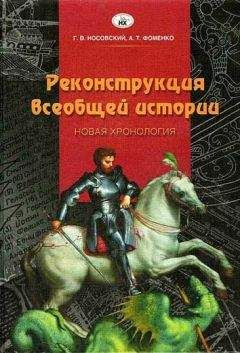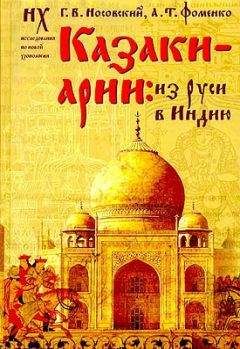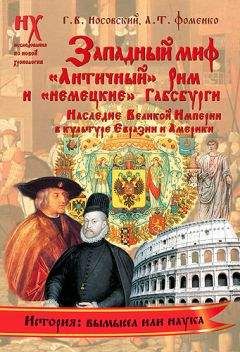Федор Нестеров - Связь времен
Недели не прошло с того дня, как поднялась Казанка, а во Фроловке уже собирается съезд представителей боевых дружин из деревень всего верховья Сучана. Он постановляет образовать сводный Сучанский партизанский отряд. В декларации, направленной консульскому корпусу, он формально объявляет войну всем иностранным державам, повинным в вооруженной интервенции, не давая, впрочем, себе труда перечислить их поименно [72]. Сознавая, что десятку деревень вести такую войну будет тяжко, он, как перед этим Казанка, рассылает в разные стороны группы агитаторов поднимать народ. И он отправляет особо доверенного человека во Владивосток на связь с большевистским подпольем, чтобы известить, что восстание началось, что оно нуждается в оружии, в притоке в отряд рабочих, в политическом и военном руководстве со стороны РКП(б). Партизанские командиры Н. К. Ильюхов и И. П. Самусенко вспоминают: «По своим политическим целям и задачам движение вполне определилось как пролетарское, направленное на восстановление Советской власти на Дальнем Востоке… Подавляющее большинство восставших составляли бедняцко-середняцкие массы. Восстание возникло стихийно, но в дальнейшем во главе его встали коммунисты, которые внесли организованность, решимость и целеустремленность» [73].
Деревенская беднота шла за пролетариатом и раньше, не покидая его даже трагическим летом 1918 года, но не она делала погоду на Дальнем Востоке. Решающий перелом в событиях произошел тогда, когда такие богатые торговые села, как Казанка, идущие в авангарде капиталистического развития русской деревни, внезапно свернули с этого пути и вместо того, чтобы поддержать стоявшее на платформе «свободы торговли» белое правительство и использовать благоприятную экономическую конъюнктуру, чтобы потуже набить мошну, объявили «верховного правителя России» самозванцем и мятежником против законного Советского правительства в Москве (эти слова были подчеркнуты в декларации, направленной консульскому корпусу) и поднялись на смертный бой за Советы [74].
Никакой экономический анализ не даст ответ на вопрос, почему этот коренной перелом в настроениях основной толщи дальневосточного крестьянства произошел. Искать ответа нужно в другом.
…В той же Казанковской школе, где недавно проходил сход, генерал Смирнов, вошедший в село во главе полка карателей, проводил порку наиболее уважаемых крестьян нагайками и шомполами. Завершив экзекуцию, он спросил одного из них, деда Полунова, за какую власть теперь он стоит, и получил твердый ответ: «Я стою за власть народа. А народ стоит за власть Советскую. Значит, и я думаю так, как весь народ. Я против народа не ходок».
«Деда вывели из школы, поставили у забора. Пять офицеров с японскими карабинами встали против него. Полунов снял шапку, перекрестился. Он успел сказать только два слова: «Прощайте, мужики!» Раздался залп, и старик рухнул на снег» [75].
В своем зверином простодушии генерал-палач, видно, полагал: вот растерзаю я этого упрямого старика, и все село ужаснется. Но все страхи Казанки уже окончились 15 декабря. До этого солнечного морозного дня она колебалась, прекрасно понимая различие между мирным богатым торговым селом и селом партизанским. Она знала участь, уготованную последнему: разграбленное добро, исполосованные спины стариков, застреленные подростки, изнасилованные женщины, дети на пепелище своих домов. И она согласилась на все, лишь бы остаться со своим народом. Поколебавшись, посомневавшись, пересчитав вынутые из тайников патроны и гранаты, она шагнула вперед и оставила все колебания, сомнения и страхи по ту сторону роковой черты. Бодрая, легкая, самоуверенная встала Казанка во весь рост, щелкнув затвором. Дерзость казанковцев питалась сознанием того, что, хотя их село и далеко от Москвы, но составляет часть той же великой державы, что сами они плоть от плоти великого народа. За высокую честь пришла пора платить высокую цену — ну что же, они за ней не постоят, да ведь и другие такие же русские люди не уклонятся от уплаты.
Пример Казанки разъясняет многое. Колебания крестьянства между пролетариатом и буржуазией даже в крайне правой точке амплитуды (летом 1918 г.) не привели его основную массу к открытой борьбе против Советской власти — это, к слову сказать, и объясняет, почему судьба Парижской коммуны миновала Советы. Середняки кое-где вместе с кулаками поднимали белые мятежи под лозунгами Учредительного собрания, кое-где вместе с городскими рабочими и деревенской беднотой подавляли их, но в общем и целом крен середняка вправо означал его отказ от поддержки Советской власти, не больше. Реалистичная и искусно проводимая аграрная политика большевиков принесла свои плоды: к моменту решающей атаки на капитал мелкая буржуазия оказалась нейтрализованной, а буржуазия осталась с глазу на глаз с пролетариатом, что и требовалось для его победы. Исход мятежей Каледина на Дону, Дутова в Оренбуржье, Семенова и Калмыкова в Сибири, Гамова в Уссурийском крае показывает с очевидностью, что победа эта была бы быстрой и относительно легкой, если бы не последовавшая вооруженная иностранная интервенция.
Интервенция изменила все: она дала временный перевес белому движению на окраинах России, но она же вывела русское крестьянство из состояния нейтралитета по отношению к Советской власти (очень часто враждебного — хлеб укрывали), толкнула его к союзу с пролетариатом и к признанию диктатуры пролетариата как единственной возможности сохранить российскую государственность. Узкоклассовый, эгоистический интерес крестьянства (свобода торговли) пришел в столкновение с общенациональным интересом, с патриотизмом широких трудовых масс и оказался побежденным. Это и было отмечено В. И. Лениным: «Это поворот не случайный, не личный. Он касается миллионов и миллионов людей, которые поставлены в России в положение среднего крестьянства, или соответствующее среднему крестьянству. Поворот касается всей мелкобуржуазной демократии. Она шла против нас с озлоблением, доходящим до бешенства, потому что мы должны были ломать все ее патриотические чувства. А история сделала так, что патриотизм теперь поворачивает в нашу сторону. Ведь ясно, что нельзя свергнуть большевиков иначе, как иностранными штыками…» [76]. «Буржуазия оказалась на стороне империалистов, ведущих политику против большевиков. Она готова была на все, чтобы удушить Советскую власть самыми подлыми способами — предать Россию кому угодно, только чтобы уничтожить власть Советов… Россия не может быть и не будет независимой, если не будет укреплена Советская власть» [77].
Поворот всей мелкобуржуазной демократии в сторону Советской власти далеко еще не означал ее перехода на позиции коммунизма. «…Война с Польшей пробудила патриотические чувства даже среди мелкобуржуазных элементов, вовсе не пролетарских, вовсе не сочувствующих коммунизму…» [78], и эти ленинские слова вполне правомерно распространить на весь период борьбы русского народа против иностранной интервенции.
Да, зажиточные крестьяне вроде наших казанковцев не могли испытывать никакой симпатии к диктатуре пролетариата, как к орудию классового господства, В. И. Ленин прямо указывал на существование «глубокой розни экономических интересов пролетариата и мелкого земледельца» [79]. Но, несмотря на эту глубокую рознь, среднее крестьянство в массе своей все же поворачивается лицом к Советам, принимает суровую пролетарскую диктатуру, поскольку «Россия не может быть и не будет независимой, если не будет укреплена Советская власть». Партия большевиков, со своей стороны, провозглашает на историческом VIII съезде весной 1919 года коренное изменение внутриполитического курса — от нейтрализации середняка при опоре на бедняка к прочному союзу со всем средним крестьянством.
И этот союз до самого окончания гражданской войны и полной победы над интервентами оказался действительно очень прочным. «Крестьянство должно было спасти государство, пойти на разверстку без вознаграждения…» [80] — писал В. И. Ленин. И оно, чтобы спасти свое государство, отстоять независимость Советской России, отдало и хлебные излишки без вознаграждения, отдало и хлеб сверх излишков, ущемляя себя, отдало и детей своих в Красную Армию, и само поднялось на вооруженную партизанскую войну, где это нужно было.
В декабре 1917 года, когда на Дальнем Востоке власть перешла в руки Советов, выборы в Учредительное собрание, произведенные согласно принципам буржуазной демократии, показали, что в этом крае за большевиками идет не более 10 процентов избирателей [81]. Но эти десять процентов, представлявшие пролетариат и беднейшее крестьянство и обеспечившие большинство коммунистов в Советах, оказались решающей политической силой, без особого труда подавившей все выступления местной буржуазной контрреволюции. Делом, не словами доказали Советы свое превосходство над парламентаризмом, якобы выражающим «волю народа», ибо, когда пришла пора скрестить штыки, Советы имели за собой все те же десять процентов, Учредительное собрание гораздо меньше, а без малого 90 процентов не выходили из роли довольно безучастного свидетеля пробы сил.