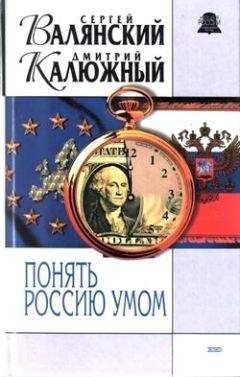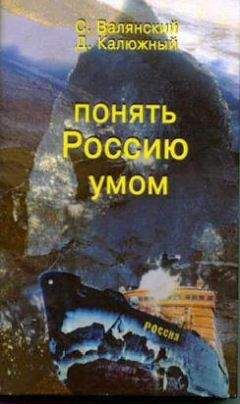Владимир Бушин - Огонь по своим
Какая литературщина! Какой догматизм! Лауреат Ленинской премии Твардовский сказал — и не смей по-другому. Вы подумайте только: за границей, на чужбине во время прекрасного всемирного праздника на глазах множества иностранцев негодяи забрасывают камнями наших ребят, нашу национальную делегацию. Это государственное оскорбление, а для русского патриота всего лишь — «неприятный эпизод». Евтушенко встал на защиту своих, негодует против наглой вылазки, возможно, даже опасной для жизни наших ребят, а этот патриот целиком на стороне оскорбивших его Родину подонков, он считает своим долгом еще и отчитать поэта, вступившегося за честь родной страны: «Стыдно!..»
Да ведь здесь вражда к литературному противнику затмила чувство к Родине. И человек не понимал этого в тридцать лет, не понял и в семьдесят. В таких случаях невольно хочется защищать даже Евтушенко тех времен. Точнее говоря, не его, а саму родную страну. В других случаях у патриотов такого рода чувство к Родине столь же решительно оттесняется и литературной симпатией, как у того же Кожинова — почтением к Солженицыну, попыткой оправдать даже его грязную возню против Шолохова, как это было в беседе с В. Кожемяко в «Советской России» 3 декабря 1998 года. Надо отметить, что для кружка этих патриотов крайне характерно главенство литературных страстей над всем остальным.
А слово «незнаменитый», кстати, вовсе не означает «недостойный славы». В числе многих толкований, которые Даль дает слову «знаменитый», есть и такие: «великий», «весьма известный», «прославленный». А мало ли солдат даже и Великой Отечественной осталось непрославленными, хотя и достойны этого. Ныне же говорят еще и так: «печально знаменитый» и даже «позорно знаменитый»… Да, финская война не была великой, это локальная война. Да, о ней многое оставалось неизвестным. Да, она не была прославлена, она померкла в великой трагедии и великой славе тут же грянувшей Отечественной войны. Но тысячи солдат и офицеров, сложивших головы тогда, заслужили славу и нашу вечную благодарность. Они прорвали линию Маннергейма, заставили финнов просить мира, выполнили все задачи, которые ставились в этой войне: в условиях уже бушевавшей в Европе мировой войны отодвинули границу от Ленинграда, завоевали необходимые для нашей обороны базы и тем самым предотвратили захват летом 1941 года второй столицы нашей Родины. Кожинов словно и не ведает, что ведь финны, как немецкие прихвостни, воевали против его Родины еще и в «знаменитой» войне…
Уже не раз так или иначе была затронута военная тема. В. Кожинов и С. Куняев по возрасту не могли быть на войне, и в армии они не служили. Что ж, это выпадает не всем. Они были на военных сборах: первый, кажется, всего разок, второй — два. Один из своих сборов, проходивших во Львове, Куняев описывает так: «Мы в ту золотую осень 1965 года то коротали время в окружной военной газете, то читали стихи студентам, то позировали скульптору Флиту, потягивая красное вино…» То, как помним, в гостях у Петренко под водочку глумились над Шевченко, закусывая украинским салом… Словом, человек пороху не нюхал, портянки сушил недолго, и вдруг читаем, что, попав второй раз на сборы, он писал жене: «Ненавижу армию. Если б ты знала, как эта организация не считается с человеком, с его привычками, настроениями, способностями, как она обстругивает каждого человека…» Ну, еще можно понять, если это писал бы вчерашний восемнадцатилетний школьник, как мои ровесники, оказавшиеся в 1941–1942 годах в армии, а вскоре и на фронте. Но Куняеву здесь уже без малого 25 лет, почти ровесник Андрея Болконского в Аустерлицком сражении, окончил институт, работает, женат. А в ту пору в армии еще служили участники Великой Отечественной, и никакой дедовщиной пока и не пахло… Мемуарист поведал нам, что в десять лет прочитал все четыре тома «Войны и мира» вместе с двумя эпилогами, в которых я лично до конца еще не разобрался. Так вот, во втором томе есть описание того, как Николай Ростов возвращается из отпуска в свой полк: «Когда Ростов подъезжал к полку, он испытывал чувство, подобное тому, которое он испытывал, подъезжая к Поварскому дому (т. е. к родному дому на Поварской улице в Москве. — В.Б.) Когда он увидел первого гусара в расстегнутом мундире своего полка, когда он узнал рыжего Дементьева, увидал коновязи рыжих лошадей, когда Лаврушка радостно закричал своему барину: „Граф приехал!“ — и лохматый Денисов, спавший на постели, выбежал из землянки, обнял его, и офицеры сошлись к приезжему, — Ростов испытал такое же чувство, как когда его обнимала мать, отец и сестры, и слезы радости, подступившие ему к горлу, помешали ему говорить. Полк был тоже дом, и дом неизменно милый и дорогой, как и дом родительский». В десять лет Куняев не мог понять чувство Николая Ростова. Но он не понимал их и в двадцать пять, не понимает и под семьдесят… Конечно, у него не было Лаврушки, но, как видно, не было и друга Денисова: «Я проклинал армию, ее режим, ее бесчеловечность в негодующих письмах матери, жене, друзьям, плакал и вздыхал о свободе личности, а вернувшись после службы (аж двухмесячной?! — В.Б.) домой, с жадностью записывал рассказы тети Поли, только что вернувшейся из Магадана после 17 лет тюремной и ссыльной жизни». В другом месте об этой тете Поле сказано, что сидела она не в тюрьме, а в лагере, и лишь пять лет, а двенадцать как вольнонаемная работала на швейной фабрике, и «вернулась в 1956 году в Калугу весьма богатой по тем временам женщиной». Но как примечательно, что сразу после «службы» в ненавистной организации, где не считаются с привычками и настроениями, кинулся к бывшей заключенной, в надежде, надо полагать, на антисоветские рассказы о том, как и в лагерях тоже не считаются с настроениями… С чем сравнить такое отношение к армии? А. Солженицын в упоминавшейся книге цитирует «Записки русского еврея» Г. Б. Слиозберга: «По отсутствию товарищества и вечной обособленности еврейского солдата военная служба представлялась для евреев самою грозною и тягостною из всех повинностей» (с. 150).
Могут сказать: «Что ж, Николай Ростов! Гусары, графы, денщики, дом на Поварской — все это слишком давно было!» Правильно. Но вот прошло почти 140 лет, и 29 марта 1945 года я, не гусар и не граф, а сержант Красной Армии в Восточной Пруссии под Кенигсбергом записываю в своем дневнике: «Сегодня ночую последнюю ночь в роте. Посылают на курсы зенитчиков. Прощай, рота! 27 месяцев протекло здесь. Как я ко всему и ко всем привык! Ухожу с таким же чувством, с каким уходил из дому… Итак, мой путь лежит в деревлю Вилау километрах в восьми от Тапиау… О чем я жалею в роте? Единственно о друзьях. Как я привык к Адайчику, Райсу, Шуре Бароновой, ко всем. А как трудно будет привыкать ко всему новому… Итак, в путь. Прощай рота!» Тогда я еще не читал «Войну и мир», но посмотрите: граф Ростов возвращался в свою часть, как в родной дом на Поварской, и я, комсомолец, покидал свою часть, как родной дом в Измайлове… А вот запись 3 апреля: «Напрасно я прощался с ротой, видно, здесь и войну кончать придется. Подполковник Лантух дал мне неверный адрес: курсы не в Вилау, а в Швиндау. Я два дня проблуждал, устал, как черт, и пропала всякая охота идти на эти курсы. И потом, серьезно-то говоря, ведь так хочется встретить окончание войны в своей родной роте, среди старых друзей… Дома (!) меня ждали два письма от Нины, одно от мамы и одно от капитана Шевцова из «Разгромим врага»…
Дня через два начался штурм Кенигсберга… После его взятия нашу часть уже летом перебросили на Дальний Восток, в Куйбышевку-Восточную. Там мы приняли участие в скоротечной войне против Японии, в разгроме Квантунской армии на территории Маньчжурии. Не помню, почему, из Маньчжурии я возвращался не со всей частью. В дневнике за 21 сентября 1945 года читаю: «От Амура мы с Потеминым поехали одни. Доехали довольно хорошо… Как приятно было идти по темным, но знакомым улицам Куйбышевки».
И в этот же день позже: «Сейчас демобилизационная лихорадка: старики и девушки-связистки уже сдают оружие, готовятся. А ей-богу грустно расставаться с некоторыми девчатами, и не только с девчатами… Сегодня им, демобилизующимся, выдали медали «За Победу». 26 сентября: «Вчера проводили стариков и девчат. Я и не представлял, что так грустно будет расставаться!
На студебеккерах в две очереди отвезли их на станцию. Ждать там пришлось недолго. Штурмом взяли вагон, втиснули всех, усадили… Я забрался в вагон, несмотря на страшную тесноту, сквозь мешки, сидора, пассажиров. Добрался до самого конца вагона, где за горой мешков сидела Саня Баронова. Попрощался с ней, крепко пожал ей руку. Она как-то жалко улыбалась. А потом пошел обратно к выходу, пожимая руки, прощаясь, желая счастья и доброго пути. Мне отвечали тем же. Все были возбуждены, взволнованы — и старики и девушки. Ведь три года прожили вместе!.. Наконец, свистки. Поезд пошел…
Как сразу пусто, тихо стало в казарме. Раньше шум надоедал, а теперь мы были бы рады этому шуму, суматохе, толкотне… А вчера было просто невыносимо. Захотелось напиться, чтобы потерять ощущение времени. Но не удалось, несмотря на все старания Адайчика».