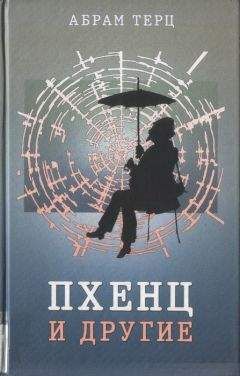Абрам Вулис - Литературные зеркала
Подчеркнутая достоверность повествования нередко сопутствует задачам предельно фантастическим: чудо нуждается в правдоподобной упаковке. Но при этом оно сохраняет свои кондиции чуда, которые чрезвычайно важны. По способам, какими чудо противопоставляет себя обыкновенной жизни, по усилиям, посредством которых оно выламывается из реальности, судят о сверхзадачах автора.
Что касается Тибора Дери, то его, по-видимому, волнует раздвоение личности, и, пожалуй, даже в личном плане — иначе не понадобилась бы ему довольно прозрачная распасовка созвучий в именах. Автор — Дери, герой Диро.
Вряд ли все же стоит охотиться за признаками авто-биографизма в повести. Если они там и присутствуют, то, вероятно, в столь микроскопической дозе, что нам их невооруженным глазом не найти. Зачем же тогда писателю эти созвучия-намеки? Думаю, мотивы у него чисто психологические. Отправляя наблюдателя в неведомое, сочинитель внутренне отождествляет себя с испытателями сложной техники, дирижаблей или самолетов, с врачами, проверяющими новые вакцины — даже противочумные — на себе. И риск путешествия по Антарктидам и Атлантидам пятого, шестого и прочих романтических, но жутких измерений он, хотя бы формально, принимает на себя.
Но вернемся к раздвоению личности в конкретно-изобразительном плане. А именно: как оно проецируется на реалии пространственного Зазеркалья? „Кухар… принялся внимательно разглядывать Диро“. Он долго сидел так, глядя на человека, недвижно застывшего с закрытыми глазами.
„Умер! — подумал он. И тотчас мелькнула другая мысль: — Он воскреснет!“
За окном все яростнее метался ветер. Через какое-то время взгляд его случачно упал на зеркало, висевшее напротив зеркала, и Кухар увидел, что Диро не отражается в зеркале.
Там отражалось кресло, и кресло это было пустым, хотя… Диро сидел в нем. Видны были сидение и спинка кресла… а ведь в действительности их загораживал своей фигурой Диро…»
«Минут семь-восемь длились… судорожные бредовые крики. Затем постепенно все стихло. И Диро снова неподвижно застыл в кресле.
Кухар… не в силах был оторвать взгляд от зеркала, где отражалось пустое кресло.
Вдруг он пошатнулся и вскрикнул. В зеркале появилось отражение Диро, и в тот же миг взмыл вверх жуткий пронзительный вопль в два голоса. Диро приподнялся в кресле…»
В дальнейшем раздвоение Диро приобретает все более наглядные, все более событийные, я бы сказал, все более эпические формы — эпические в том смысле, что двойник Диро материализуется чуть ли не в его дуэльного соперника (полная аналогия с андерсеновской «Тенью»).
«…Войдя в призрачный круг света, отбрасываемого фонарем, она… остановилась на миг и тотчас почувствовала, что за спиной у нее кто-то стоит… Теперь она точно знала, что кто-то неслышным шагом преследует ее. И тут ее осенило: она поняла, что сегодня наяву переживет свой вещий сон. Тень жизни обрела живую плоть, отображение вышло из зеркала…»
Зеркальная персона проявляет свою бунтарскую натуру в монологах баррикадно-байронического толка:
«— …Пламя — огонь — это я… Свобода и справедливость — тоже я… И природное естество, и чувства, и инстинкты — все это тоже я. Остерегайся: огонь безумия исторгнется мною, если оковы не в силах будут сдержать его. Я — справедливый пламень жизни. Теперь уж не долго ждать, скоро я соберусь с силами, окрепну и окончательно освобожусь от того человека, который сковывает мою волю… Я ненавижу его и скоро убью.
Женщина, вскрикнув, в ужасе уставилась на зеркального двойника Диро.
— Убьешь моего хозяина?
— Твоего хозяина?.. Значит, и тобою он помыкает?..»
Не буду выяснять, чего здесь больше — риторики или жизнью обоснованного смысла, к кому охотней прислушивается автор — к Ницше с его Заратустрой или к Уэллсу с его невидимкой? В конце концов индивидуалистическая проповедь остается в обоих случаях превознесением некоего «я» над другими личностями.
Отмечу лишь, что внешняя атрибутика, включая лексический репертуар двойника, напоминает преимущественно Уэллса — может быть, потому, что и тот герой как бы вышел из зеркала, по-иному говоря, отнял у зеркала свой образ, вычел из зеркала свое отражение. А еще потому, что двойник Диро — еще и двойник уэллсовского героя по своей программе: его кредо тоже самоутверждение через насилие.
Насколько выходец из зеркала связан спецификой за-зеркалья?
Диро № 2, ухмыляясь, стоит на железнодорожных путях перед приближающимся поездом: судьба Анны Карениной его не страшит, потому что ему не угрожает. Значит, он — всего только отражение. То есть раб физических законов. Но существенней другое. Зазеркальный обитатель выражает, как правило, нравственный императив исходной среды, он ее полномочный представитель, носитель, распространитель. Он — это и есть она в ее динамичном, антропоморфном облике — или обличье.
Облик — нечто человеческое. Обличье — нечто дегума-низированное. Зазеркальная персона имеет вполне пристойный облик, каковой оказывается на поверку обличьем, личиной, маской.
Или даже, точнее, не оказывается, а оборачивается. Ибо населено Зазеркалье по преимуществу оборотнями (хотя есть среди них толика безобидных, добродушных чудаков, проходящих под кличкой «человек-наоборот»).
В массе же оборотни — нечистая сила различной формации, от чертей до научно-фантастических призраков новейшего времени, исчадий кибернетики, автоматики и робототехники.
Существует неписаный канон, согласно которому нечистая сила зазеркального происхождения освобождена от анкетного оброка. Ранги, связи, даты и истоки ее обычно замалчиваются, что нарабатывает выходцам из потусторонности всяческие дополнительные ореолы: романтической недосказанности, таинственности или даже исторического сиротства, а также и соответствующие льготы вроде свободных эволюции в пространстве, времени, психологических обстоятельствах и событийных хитросплетениях.
Самые мирные двойники приходят к нам в компанию из кривого зеркала — и мы их подчас весело приветствуем: обзавестись пародией на себя куда предпочтительней, чем приобрести палача или даже просто пажа с адскими знаками различия в петлицах. Чуть ли не предел критической агрессивности кривых зеркал — немой укор.
У современного писателя Александра Житинского отрицательный персонаж повести «Арсик», что называется, «нехороший человек», входит в павильон кривых зеркал:
«Какой я на самом деле?.. Вот узенький, вот широкий, с короткими ножками, вот у меня огромное лицо, а вот маленькое. Здесь я извиваюсь, как змея, а там переворачиваюсь вверх ногами. Моя форма непрерывно меняется, и все же что-то остается такое, позволяющее узнавать меня в самых невероятных метаморфозах». Насмешливая и неглубокая «кривизна», играющая легкими зрительными каламбурами…
Но вот зеркало включает второй круг своих возможностей. Заполняется застывшим изображением, портретом — или даже отвлеченной памятью, для которой видимые черты — всего лишь метафора чего-то невидимого: характера, судьбы, конфликта:
«И вдруг я увидел в одном из зеркал Арсика. Он стоял во весь рост и улыбался, глядя на меня. В глазах его было сияние. В одно мгновение почему-то мне вспомнилась та картинка поразительной ясности — летающий над зеленой лужайкой мальчик, — которую впервые показал мне Арсик. От неожиданности я отступил на шаг, и Арсик исчез из зеркала. Тогда я осторожно нашел точку, из которой он был виден, и принялся его разглядывать. Арсик был неподвижен — моментальный кадр, оставшийся в зеркале».
Дальше идет технология: «Я зажмурил глаза, потом открыл их — Арсик продолжал улыбаться. Тогда я внимательно осмотрел соседние зеркала. И тут до меня дошло, что я стою в особой точке огромного запоминающего элемента Арсика — в точке вывода изображения. Три кривых зеркала были расположены так, что составляли вместе этот запоминающий элемент».
Но сюжет продолжает развиваться, и вот его энергия получает выход — не то взлет, не то сброс: Арсик перебирается у нас на глазах из зеркала в действительность. У него нимб мученика над челом. Радует ли тебя этот знак узаконенной святости, если ты, гениальный ученый, вынужден служить в цирке, показывать свои великие изобретения в качестве фокусов, тогда как в храме науки обосновалось подловато иронизирующее первое лицо, неистребимый повествователь, простодушный, довольный, тот самый, что невзначай выболтал: «извиваюсь, как змея».
Дорожные штрихи экскурсий по Зазеркалью. Зачастую повторяющие то, что уже было. Иногда — новые. Иногда и вовсе неповторимые. И все-таки звучит в них упрямый, постоянный мотив: попранной, посрамленной, отвергнутой нормы. Фигурально выражаясь, поезда в Зазеркалье сходят с рельс, идут в направлении, противоположном заданному, ломают графики, заезжают в чужое время.