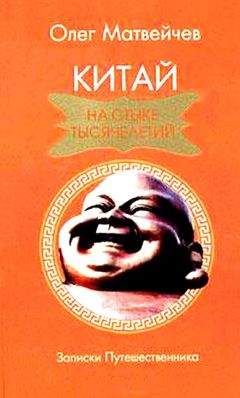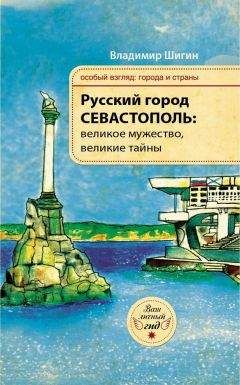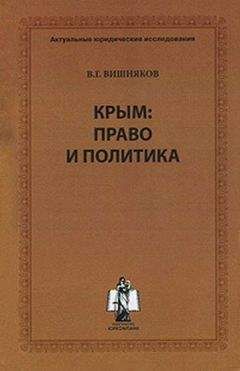Анатолий Беляков - Россия и Китай. Две твердыни. Прошлое, настоящее, перспективы.
У китайцев есть традиционная система управления – помнишь, ее описывает китайский инвестор Эрик Ли в «Сказке о двух политических системах»? И мы об этом в книжке с тобой написали – это когда человек занимает свою должность, свое место под солнцем, лишь доказав свою профпригодность на экзамене, пройдя через много сит, убедив всех в своей не просто работоспособности, но – исключительности. К этому китайцы готовятся сызмальства. Не удивительно, что они все время побеждают на международных школьных олимпиадах по самым важным предметам. Не удивительно и то, что у китайских студентов репутация – чуть ли не роботов. По сравнению с китайскими студентами наши – лентяи, они мало учатся, больше тусуются, «пытаются взять от жизни всё».
А.Б.
По Фейсбуку не далее как совсем недавно гуляли фото кастинга в китайские стюардессы. Это что-то! На одно место – почти сто девушек, и отбор они проходят такой, как если бы они одновременно претендовали на место в отряде космонавтов, профессоров Гарварда и в финале Мисс Мира! Нашему менталитету это, как минимум, удивительно!
Претендентки на должность стюардессы проходят в Китае очень жесткий отбор
О.М.
Различия в менталитете китайцев и русских все равно кроятся, прежде всего, в языке. Иероглифический язык – исключительный (исключающий). Этот язык неспособен взять в себя ни одного иностранного слова, в этом смысле он очень националистичен. Вот, например, моя фамилия Матвейчев состоит из нескольких иероглифов. Первый иероглиф обозначает лошадь, второй – особенно или очень, третий имеет несколько разных значений в зависимости от сочетаемости – это либо большой, либо полотно какое-то. И, наконец, два последних иероглифа – это резать и мужчина. Все вместе – что-то вроде «Лошадь – очень большой мужчина». То же самое и с любой другой фамилией. У них нельзя сказать «ксерокс» или «айфон», как мы говорим – непосредственно слово, а надо переводить на китайские иероглифы. Эта особенность языка приводит к тому, что если китайцы и могут строить какую-то империю, то только империю для себя, националистическую, ханьскую империю.
А русский, наоборот, – совершенно синтетический язык, который может включать в себя слова из любых других языков. И дает открытость нашему менталитету, открывает дорогу новым веяниям. И какие-то идеи, и новые люди и слова, разные этносы, разные нации и то отличительное, что видел у русских Достоевский, когда говорил о Пушкине: «Русские – это всечеловеки». Или как Блок писал:
Нам внятно все – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений.
Об этом свидетельствует и то, что у нас мощные школы и востоковедения, и изучения западной культуры, что русский образованный человек легко назовет не менее чем по десятку имен музыкантов, писателей, поэтов почти из любой страны. А в том же Китае вряд ли многие так смогут.
Хотя то, что в советские времена в китайскую систему образования вошло, им известно. Например, одной из самых популярных и продаваемых книг в Китае является роман Островского «Как закалялась сталь». Другое дело, что те, советские, идеалы остались в прошлом.
Но это единичные случаи. Факт есть факт: серьезно нашей историей и нашей литературой в Китае не интересуются. Между тем, ситуация «Империи ученых», когда каждый чиновник – поэт, является идеалом для любого государства. Если что и заимствовать у Древнего Китая – это ту ситуацию, когда государством управляют философы, поэты и каллиграфы, которые точно не будут интересоваться ничем материальным, а все, что их интересует – это справедливость, воля Неба, законы.
А.Б.
Но как же этого добиться?
О.М.
Через внедрение особых образовательных стандартов. Китайцы пусть уж сами решают, что им делать, а в России это вполне реализуемо.
Философ Александр Секацкий некогда написал шуточную книгу «Два ларца», якобы состоящую из шпаргалок китайских студентов – юристов, чиновников, где они разбирают всякие казусы и несколько их возможных решений: классическое; предложенное таким-то мудрецом и предложенное таким-то другим мудрецом. Все они формально противоречат друг другу, но студент все их должен знать. Это ни что иное, как благородная софистика. Кажется, что люди занимаются перестановкой слов и игрой смыслов, но на самом деле именно такая атмосфера способствует эффективному управлению, она абсолютно антикоррупционна, воспитывает народ.
А.Б.
Ну, хорошо. Мы, россияне, можем с большой для себя пользой перенять у китайцев их древний, веками себя зарекомендовавший метод отбора людей во власть, их экзаменационную систему с ее антикоррупционным потенциалом, уже на входе, что называется, предотвращающие саму возможность коррупции. А вот у нас китайцы могут чему-либо поучиться? И про Китай, и про Россию всегда говорили, что это те самые страны, которые могут выступать для других только негативным примером. Посмотрели на нас, ужаснулись, и решили, что так делать нельзя. У Чаадаева есть такое, да и не только – вплоть до Жванецкого. В Китае, говорят, вышел учебник для высшего руководства страны – как не допустить ошибок СССР, приведших к его развалу? Или мы для Китая тоже, как для так называемых «цивилизованных стран», можем выступать только в категории «как нельзя»?
О.М.
У России китайцы могут найти то, что они утратили у себя. А именно – презрение к материальному, стремление к гармонии духовного и плотского, открытость ко всему новому и отвагу в стремлении к неизведанному.
Опять же Секацкий написал такой текст – «Чжуан-цзы и даос Емеля». Емеля – один из любимейших персонажей русских сказок, который лежал на печи, надеялся на авось, пойманную щуку не съел, чтобы голод утолить, а проявил добросердечие. Определенный этический идеал закладывается в этой сказке – доброта и благородство. А ведь щука – возьми и окажись волшебной. Разрешила ездить на печи (печь в индоевропейской культуре – сакральная вещь), дала возможность исполнять желания. Что тут, как не традиционная китайская философия недеяния? Емеля – стихийный даос – оказывается инноватором, победителем. Это свойственно нашему раздолбайскому характеру. Недаром он идеал наших сказок.
Мы не только ставим задачу и пытаемся ее решить, как это делается на Западе и в современном Китае, но и смотрим по сторонам, пытаемся притормозить, оглядеться, мы никогда полностью не вовлечены ни в какое дело, а рассматриваем разные варианты – всегда открыты.
Я думаю, что у нас эта открытость и даосизм происходят из индоевропейской матрицы, что даосизм был занесен китайцам через тохаров, может быть, индусов – как одна из интерпретаций вед. Может, потому он нам и показался в свое время родным и любимым. Это и дало китайской культуре большое мощное духовное измерение, и это и нужно им в себе опять культивировать.
Если они уйдут в торговый материальный интерес, то это будет – провал! Марксизм с его материализмом – предшественник и либерального упадка, чисто материального. Приезжаешь в Грецию современную – и видишь, что это торгаши, которые за копейку удавятся. А как же они стояли у истоков западной науки, всего западного мира? – задаешь себе вопрос. И понимаешь, что это уже не те греки, это люди, которые были величайшей нацией, которую сгубил материализм. И китайцы, которые имели богатейшие традиции – неважно, были ли они привнесены протоиндоевропейцами или порождены в собственных недрах – рискуют превратиться в таких же греков, недостойных наследников собственной великой истории.
Китайскому руководству надо бить во все колокола и ставить преграды на пути материализма и прагматизма, американизма, вульгарного марксизма, и развивать свои традиции, духовные возможности, которые были в легизме, конфуцианстве, даосизме, устанавливать на это моду, возвращаться к тем истокам, которые в свое время сделали ее величайшей нацией на планете.
Примечания
1
Струве В.В. История древнего Востока. [М.]: ОГИЗ; Госполитиздат, 1941. С. 13.
2
Масперо [Г.] Древняя история народов Востока. М.: Изд. К.П. Солдатенкова, 1903.
3
Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 1993. С. 157.
4
Гюго В. Человек, который смеется // Гюго В. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 10. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1955. С. 37.
5
Первым из греков Уральских гор достиг, по преданию, Аристей из Проконнеса, описавший свои путешествия в поэме «Аримаспея» (см. напр. Hdt. IV, 13–16).
6
Появление первых японцев в Китае Государственные летописи Восточной Ханьской династии («Хоуханьшу») относят к 57 г. н. э.