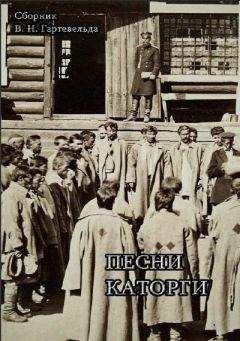Алекс Данчев - Сезанн. Жизнь
Каждая из Ортанс по-своему поражает или волнует. Они то строгие и непреклонные, то нежные и ранимые, скованные или отстранившиеся, чем-то стесненные или недовольные, созерцающие, мечтательные, оживленные, разочарованные. И всем свойственна определенная нерешительность. Эти портреты скорее отображают неоднозначность характера, нежели физиономическую завершенность. Они вовсе не лестны. Они бывают обаятельны, но соблазнительны – никогда. Они предельно эмоциональны и экспрессивны, но, как отмечает историк искусств Сюзан Сидлаускас, есть в них нечто от сфинкса: сдержанность, нежелание заискивать. Ортанс не пытается заставить нас полюбить себя; и портреты к этому не побуждают. Модель, как и художник, не дарит приятных эмоций зрителю. Во время выставок Ортанс требовалась надежная охрана. Несмотря на модное платье, «она словно упорно противится привычным признакам женственности», как заметила Сюзан Сидлаускас. На некоторых портретах у «мадам Сезанн обнаруживаются мужеподобные черты». О вкусах не спорят: где один видит нечто мужское, другой замечает «широкую, красивую бровь, небольшое, изящное ухо и восхитительно неровную линию подбородка». И все-таки чаще интимное начало заложено не в этом. Оно проявляется «в чувственном росчерке деталей: запястье, посадка головы, линия волос – до чего откровенно передан сезанновский эрос». Через сто лет после того, как были написаны эти портреты, мы продолжаем открывать все новые глубины природы этих произведений{493}.
Сказать по правде, недостает ей не столько женственности, сколько узнаваемости. Этакая «Неизвестная мадам Сезанн». Быть может, длительное созерцание, фанатичная сосредоточенность позволили Сезанну несколько дистанцироваться? Кафка, очарованный Фелицией Бауэр, ставшей его невестой, написал в своем дневнике: «Я начинаю отстраняться от нее, когда слишком пристально изучаю»{494}. Многоликая неузнаваемость Ортанс часто – отстраненная, но еще чаще обескураживающая; и это, возможно, стало толчком к заимствованиям образа. В своем исследовании «Композиция Сезанна», впервые опубликованном в 1943 году, Эрл Лоран приводит схему «Портрета мадам Сезанн», объясняя, как он выполнен. Двадцать лет спустя представитель поп-арта Рой Лихтенштейн воспроизвел эту схему в «натуральную величину», на холсте, назвав свое творение «Портрет мадам Сезанн». Лоран был возмущен (как некогда возмущались критики) и подал иск, заявив о плагиате; но некоторые все же поняли, что карикатурно-схематичная «Мадам Сезанн как орнамент» (название предложено одним философом) удачно обыгрывает живописные задачи Сезанна{495}. Десять лет спустя Элизабет Мюррей также создала «Мадам Сезанн в кресле-качалке» (1972) – своеобразный полуабстрактный комикс-раскадровку (цв. ил. 40){496}. Мадам Сезанн, типический персонаж немой комедии, сидит перед окном; на него ложится полоса желтого лунного света. В одном из разбитых на кадры рядов луч уволакивает ее прямо через окно; в другом усыпляет, и она валится со своего кресла, комично ударяясь лбом. Все эти фигурки и призраки, конечно же, не случайно представляют мадам Сезанн многоликой («Сезанн, я верна тебе во всем», – шутила Мюррей){497}. В оригинальных портретах есть что-то от фоторобота: свидетель участвует в достижении сходства и к сходству стремится.
Портрет мадам Сезанн. 1888–1890
Схема «Портрета мадам Сезанн»
Ортанс стала наваждением. Когда Гертруда Стайн в 1904 году купила у Воллара картину «Мадам Сезанн с веером» (цв. ил. 39), торговец признал, что в ней есть нечто мужское или, быть может, странное. «Воллар сказал, что обычно женский портрет стоит дороже мужского, но, – добавил он, внимательно разглядывая картину, – думаю, что для Сезанна разницы нет». Портрет висел над любимым креслом Стайн. По словам писательницы, он ее вдохновлял – и не давал покоя Пикассо, когда тот искал нужное решение для «Портрета Гертруды Стайн» (1905–1906). И нашел то, что удивительно созвучно картине, которую так любила его модель, – «портрету женщины с вытянутым лицом и веером»{498}.
Она – лицо, то вытянутое, то круглое, то овальное, но еще и взгляд. Лицо – как театр военных действий, «территория огня». Художник и модель оспаривают право собственности: право принадлежать себе. Идет борьба его и ее мировосприятия. Нередко он словно подавляет ее сопротивление. Лицо опускается вниз, как и уголки рта, губы наливаются синевой, покрываются изъянами, как перезрелый плод{499}. Самообладание – наносное. Хрупкость же исходит изнутри, как будто проступает сквозь капилляры. Лицо Ортанс исполнено чувства. Чувство может быть едко-зеленым, бледно-коралловым, ализариново-красным, сине-зеленым, охристо-желтым. «Да поможет им Бог, – восклицал Сезанн, вспоминая вездесущих невежд, – если их воображение не способно постичь, как, смешав зеленый и красный до подходящего оттенка, сделать, чтобы рот был печальным, а щека улыбалась».
Из этой борьбы возникает нечто более глубокое, скрытое «я», личность с ее переживаниями, множественными табу, слабостями, недоступностью. Этим можно объяснить, почему ее лицо походит на маску и одновременно кажется таким живым, хотя взгляд часто – отсутствующий. Этот характе́рный невидящий взор Пикассо позаимствовал для себя (и для Гертруды Стайн). Любимая актриса Сэмюэла Беккета, Билли Уайтлоу, спросила его однажды, как ей лучше выглядеть на сцене. Беккет ненадолго задумался и ответил: «Самоуглубленно»{500}. Вышедшая на пустую сцену Ортанс погружена в себя.
Ницше считал, что человек «строит философию, как бобер: он не знает, что это вынужденно». То же утверждение, видимо, верно и по отношению к изобразительному искусству, и в частности к портретам. Сущность живописи ухватить непросто; как строит свои сооружения бобер, так же складываются части целого и эффекты – изгиб, напряжение, наклон. Сезанн был художником по наклонности, как он любил говорить. Позирующая Ортанс изображена под наклоном, потому что строптива. Иного Сезанн и не искал: в этом смысле он не был разочарован. «Думаете, так легко написать портрет?» – ворчал он, пытаясь объяснить Анри Гаске:
Между нами, Анри, – то есть между тем, что создает вашу и мою индивидуальность, есть этот мир и солнце, они существуют, и мы оба их видим. Наши одежды, тела, игра света – сквозь все это мне нужно прорваться. И малейший неверный мазок может все испортить. Если я буду прислушиваться к своим чувствам, то смещу ваш глаз в сторону. Если я свяжу с выражением вашего лица целую систему небольших вкраплений синего и коричневого, которые здесь есть и соединяются вместе, на своем холсте я запечатлею вас таким, как есть. Мазок за мазком, мазок за мазком. Но если я буду бесстрастным, если буду рисовать и писать как в академиях, я ничего не увижу. Только рот или нос, «как по писаному», всегда одинаковый – ни души, ни загадки, ни страсти. У мольберта я всякий раз другой человек и всегда – Сезанн.
Он повернулся к сыну Гаске:
Взгляните на своего отца, Гаске, вот он сидит, верно? Курит трубку. Слушает вполуха. Думает… интересно о чем? При этом его обуревают чувства. Его глаз меняется. Бесконечно малая величина, атом света, изменил его изнутри и встретился с неменяющейся или почти неменяющейся шторой на окне. И вы видите, как этот едва заметный, неуловимый тон, потемневший под веком, сместился. Хорошо. Я это поправлю. Но теперь зеленый свет рядом с ним кажется слишком ярким. Я его смягчаю. ‹…› Прохожусь по всей поверхности почти невидимыми мазками. Глаз смотрится лучше. Но есть еще один. Видится мне, что он прищурен. И смотрит, смотрит на меня. Хотя на самом деле обращен на свою жизнь, на прошлое, на вас, не знаю, на что еще, но только не на меня, не на нас…
Анри Гаске: Я вспомнил тот козырь, который держал вчера до третьей взятки.
СЕЗАНН: Вот видите!{501}
Для Сезанна, как и для Пруста, человеческое лицо было «лицом божества в какой-нибудь восточной теогонии, соединением лиц, совмещенных в разных ракурсах, так что их нельзя увидеть все сразу»{502}. Он никогда не видел Ортанс сразу во всех ипостасях. Каждый раз это была другая женщина – и по-прежнему она. Действительно, она всегда узнаваема. За озарениями и мириадами ликов одна деталь в ее облике неизменна: верхняя губа. Душа мадам Сезанн зашифрована в верхней губе.
Автопортрет: собачий взгляд
Этот портрет (цв. ил. 3) обычно датируется примерно 1875 годом, когда Сезанну было тридцать шесть. Поза, осанка, пирамидальный силуэт, облик и космы напоминают наверняка знакомый Сезанну монументальный автопортрет Писсарро (цв. ил. 28); при этом как в чертах, так и в выражении лица есть некоторое сходство с дружеским «Портретом Поля Сезанна» (цв. ил. 25){503}, написанным Писсарро около 1874 года.