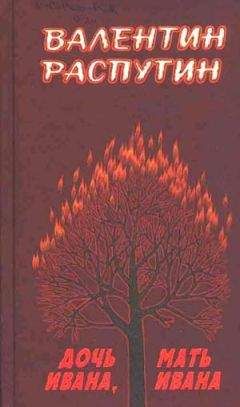Журнал Наш Современник - Журнал Наш Современник №11 (2003)
Да, пожалуй, не то место я выбрал, чтобы шутить. Суслов дважды поднял и опустил очки. Развернулся ко мне на стуле и, склонив голову, уставился на меня Кулаков, напрягся Зимянин, горестно покачал головой Черненко. С недоумением глядел Капитонов (что за кадра подсунули?). Суслов приложил ладонь к уху и с напряжением спросил:
— Что? Что вы сказали?
Я уже с меньшей уверенностью, но направляя слова в ладони, сложенные рупором, повторил:
— Благодарю за то, что продлили комсомольскую молодость в комсомольской газете.
Лицо Суслова посветлело. Он закивал:
— Верно, верно, лучшее время в жизни. Я вот помню... — Он обратил взор к Кулакову, тот закивал и добавил что-то про свою юность, Пономарев вспомнил про кимовцев, а Капитонов про фабзайцев. Через несколько минут Суслов с недоумением взглянул на меня, стоящего у стола. “Что это ты тут делаешь?” — было в его взгляде. Боголюбов двинулся ко мне, Суслов же вспомнил:
— Ну, хорошо...
Боголюбов зашептал:
— Уходи, уходи...
Я вышел из зала, не понимая, утвердили мою кандидатуру или нет. Меня догнал генерал Епишев, начальник Главного политического управления армии, похлопал по плечу:
— Молодец, хорошо обсуждали. Давай с армией поработаем.
Да, с этого и началась моя непродолжительная работа в “Комсомолке”. Человеком я себя считал опытным, пятитысячным коллективом “Молодой гвардии” до этого руководил (знамена получали), работал с научными и студенческими кадрами, был на острие идеологической работы в ЦК комсомола, знал периферию и национальные республики. И, как мне казалось, хорошо разбирался в антирусских кознях, которые плелись ЦРУ, сионистами, ревизионистами, вообще врагами России. Как же я был наивен и прост! Потом, поднимаясь выше, почувствовал всю агрессивность властной атмосферы, в которой сгорали крупицы человечности.
Скажу откровенно, и в эти годы я руководствовался идеалистическими устремлениями, служа, как я считал, Родине. Особо меня беспокоило состояние русского народа. Им пренебрегали, его спаивали, бессовестно урезали его возможности, приращивали за счет России Казахстан, Киргизию, Латвию, “впрыскивали” русские мозги в национальные Академии, отбирая для всех, кто кричал позднее русским “оккупанты”, места в московских и всех российских вузах. У России не было своей Академии наук, которая работала бы над ее проблемами, не было и Российской коммунистической партии, которая бы занималась экономикой “своей республики”. В стране была хорошо организована донорская система откачки умов, капитала, ресурсов в другие республики и за рубеж (интернациональная помощь).
1978 год, март
Под портретом Ленина секретари ЦК комсомола Борис Пастухов, Анатолий Деревянко, зав. сектором газет ЦК КПСС Зубков представили меня редакционному коллективу в знаменитом Голубом зале “Комсомолки”.
Толя Агарышев зашел накануне ко мне в “Молодую гвардию” и сказал:
— Учти, ты первый русский главный редактор. А тут не только лес, подлесок, но и трава из нерусских. Даже машинистки, даже курьеры. Будь бдителен.
Агарышевская неуступчивость и неистовость были всем известны, поэтому его блокировали в ЦК, в газете, блокировали все, кто владел властными и общественными рычагами. Я приказывал себе быть шире, объективнее, историчнее, не ввергать себя в поток злобы и ненависти, рассматривать события, явления с разных точек зрения. Эх, если бы такое рыцарство удавалось всем и с другой стороны. Но дон-кихоты все-таки не побеждают в этом мире.
Пошли газетные будни, приглядка, опробование, проверка “на проходимость” той или иной темы, того или иного материала. Я старался не трогать, сильно не сокращать материалы “священных коров” газеты. А люди... В большинстве своем они были профессиональны, даже талантливы и себе цену знали. Я тоже знал, и между нами был негласный пакт: “Нас не трогай, и мы не тронем”.
Постепенно я понял, что союзников у меня в проведении национально-ориентированной политики немного. Сказывалась многолетняя глобалистская школа воспитания журналистов, либеральная общественная спайка, даже террор, или порядок, выстроенный в прессе (если ты не с нами, то есть с ними, то ты не займешь никакого достойного места ни на полосах газет, ни в журналистской иерархии). А самое главное, в журналистике вырабатывался всеобщий принцип беспринципности, который и стал основным в либеральной печати наших дней.
Под меня был “посажен” первым заместителем Борис Мокроусов, пришедший из отдела науки ЦК ВЛКСМ, хотя сам он, за исключением того, что работал в Новосибирске, к науке отношения не имел, а к журналистике тем более. Мокроусов почти каждый день ходил в ЦК, докладывал, накапливая отрицательный материал на главного. Я понял, что балансировать ни к чему, и решил насыщать “русскостью” “Комсомолку” через писателей, деятелей культуры. Чуть ли не впервые после борьбы с космополитами появился на страницах газеты Анатолий Софронов, напечатаны были Анатолий Иванов, С. Наровчатов, М. Алексеев, Е. Исаев, И. Глазунов, А. Жюрайтис, Е. Образцова и т. д. Я провел почти полосную беседу с Марковым. Опытный Георгий Мокеевич беседовал осторожно, но темы России, Сибири, русского языка ему были близки, и он воспламенялся и говорил достойно о том, о чем в “Комсомолке” говорить было не принято.
Рукоплескания здесь вызывали страдания одинокого, обиженного коллективом (обычно русским) черноглазого мальчика и интеллектуальной девочки, распинаемой тупыми провинциальными учителями за их любовь.
Широкую и разностороннюю беседу на два “подвала” провел я и с Сергеем Залыгиным: о русской почве, о земле. Тема была столь широко разработана и охватывала такое множество аспектов нашей жизни, что Сергей Павлович включил ее впоследствии в свои новые книги, а я долго считался специалистом по почве, хотя имел в виду в этой беседе скорее “почвеннические” задачи литературы.
Но, может быть, самой заметной стала моя статья о Василии Белове “Нестихающая совесть писателя”. Это была первая, пожалуй, столь большая статья в центральной газете о русском писателе “почвеннического” направления. Заголовок я взял у самого Василия Ивановича: “Писателями становятся не от хорошей жизни. Признак настоящего писателя в наше беспокойное время — нестихающая совесть...”. Я попытался представить для большинства читателей, еще не знакомых с пронзительным творчеством Белова, всю панораму его произведений. И “Привычное дело”, и “Плотницкие рассказы”, и “Бухтины”. Многие молодые люди, наши читатели, ощутили тогда, что в нашей русской, советской литературе утвердился большой, самобытный, нравственно чистый писатель из Вологды.
Именно в Вологде я почувствовал искренность и печаль писателя, когда он водил меня по местному музею (я был тогда директором издательства “Молодая гвардия”), профессионально и восторженно рассказывая о северной русской иконописи. И, подобно поэту, творил поэму вокруг прялок, чугунков, ухватов, кружев, одежд крестьян Вологодчины. Я, проживший в провинции лет двадцать, считал, что знаю крестьянскую жизнь. Но та сага, которую я услышал от него в тот день (а она, как я понимаю, у него давно была сотворена), переливалась цветами радуги. Я и сам задохнулся от восторга, сразу ощутив, что передо мной развернулась потрясающая и незабываемая картина крестьянской Атлантиды. Вернулся и послал ему договор на книгу о крестьянской эстетике. Он отослал его обратно (наверное, не хотел спугнуть вдохновение). Еще раз — то же самое. Принял договор только на третий раз. “Лад” — великая книга-реквием — вышел уже после моего ухода из издательства.
Георгий Мокеевич Марков позднее с видимым удовлетворением сказал:
— Поздравляю, ваш подопечный получил Государственную премию.
Да, это была большая победа всей нашей истинно русской, замаскированной под кодом “деревенская”, литературы.
Крепостная стена стала расшатываться, это почувствовали оппоненты. Кое-кто и дрогнул, потому что некое местечковое кумовство и нахальство не всегда проходили. Кучковаться решили в другом месте, и потекли “кадры” в “Литературную газету”. Честно скажу, что я не выгнал ни одного человека (это и до сих пор мое слабое место). Уходили сами. Правда, Щекочихин в радиопередаче (кажется, С.-Петербургского радио) в самый разнузданный период “перестройки” заявил, что был период, когда Ганичев выгонял из “Комсомольской правды” евреев! При встрече я ему сказал, что и не знал, что он еврей, а антисемитом я никогда не был. Русофилом, а скорее славянофилом, я был и надеюсь, что и он, Юрий Щекочихин, не русофоб. Тот был озадачен и пробормотал, что он, собственно, не еврей. Вот и хорошо, значит, я неправильно его понял.
Из “Комсомолки” при мне ушло человек 20—25. Ничего в этом особенного не было, молодые люди везде нарасхват. Но Севруку в ЦК партии доложили: “Разгоняет кадры”. И он усиленно стал вдалбливать это в головы начальства, которое скандалов не любило. Те, кто готовил смену власти, это учитывали и скандальчик за скандальчиком вбрасывали в приемные секретарей, рассказывали об этом помощники членов Политбюро, зав. отделами грозного ЦК, ибо, в отличие от нас, они-то и были повязаны там семейными и братскими узами. Нам же приходилось надеяться только на бессмертный дух нашего народа.