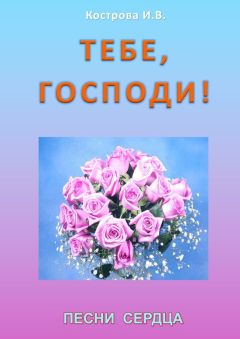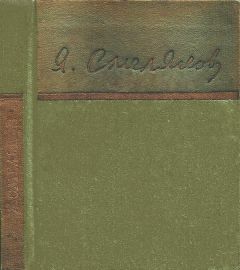Ларри Коллинз - Горит ли Париж?
В тишине, наступившей вслед за его словами, Клаус Энгельмейер, доктор из Вестфалии, получивший назначение в Большой Париж, подумал про себя: «Бог мой, он заставит нас всех умереть в этой гостинице».
44
Дитрих фон Хольтиц стоял перед зеркалом в спальне и рассматривал жесткий, врезающийся в шею воротничок. Было очевидно, что в Париже он поправился. Со времени своего приезда в город он впервые надевал рубашку с жестким воротничком. Позади него на кровати лежал только что отутюженный белый китель, который он через несколько минут наденет к серым форменным брюкам с красными генеральскими лампасами. Фон Хольтиц лишь однажды надевал этот китель — на прием после взятия плацдарма в Анцио, когда отмечал присвоение звания генерал-майора. В этот вечер он надел его для другого приема, своего последнего на многие годы вперед. На втором этаже «Мёриса» в одной из комнат его служебного номера коллеги давали прощальный ужин.
Почти никто из немцев в отеле «Мёрис» не питал иллюзий относительно ожидавшей их участи. На протяжении всего дня на огромной карте Парижского района в кабинете Хольтица красными булавками отмечалось совершенно непредвиденное и молниеносное продвижение союзников. Теперь эти булавки были воткнуты у самых ворот города. Вечерняя оперативная сводка из штаба Западного фронта о положении на всем фронте в целом была не менее удручающей. Из нее Хольтиц узнал нечто, чего не знал Бобби Бендер. Американцы совершили прорыв через Сену в районе Сана и беспрепятственно углублялись в немецкие тылы. Чтобы остановить их, в Ножан-сюр-Сен и Труа были направлены две дивизии — 26-я и 27-я бронетанковые СС. Подкреплений Хольтиц уже не получит.
Завязывая черный галстук перед овальным зеркалом, Хольтиц подумал, что через несколько часов, может быть, на рассвете придут союзники, придут убивать. Даже майор люфтваффе, столь грозный во время их утреннего разговора, так и не появился в штабе. Хольтиц с горечью думал об этом майоре, о Гитлере, Йодле, Моделе. Вместо подкреплений для защиты города они посылали ему лишь слова и пневматические буры 813-й саперной роты. Оказавшись неспособным оборонять Париж, ОКВ вместо этого решил насладиться его разрушением.
Теперь все они ждали от Хольтица лишь одного: приказа взорвать мины, столь тщательно расставленные Вернером Эбернахом.
Завтра к вечеру, размышлял покоритель Севастополя, он будет либо погребен под обломками отеля, либо окажется в плену. Тем майским утром, когда он выпрыгнул из своего «юнкерса» в аэропорту Роттердама, он мечтал о другом конце для себя, для Германии. И тем не менее orç сознавал, что сам, послав Нордлинга к союзникам, способствовал наступлению именно такого конца.
Взяв одеколон, который десять дней назад принес ему капрал Майер, Хольтиц растер виски: в этот горестный вечер он по крайней мере постарается выглядеть бодрым перед подчиненными. Он поставил изысканно выполненный флакон на место. Поскольку он редко им пользовался, то только сейчас заметил название одеколона — «Парижский вечер».
Затем, словно капитан, приготовившийся пойти ко дну вместе со своим кораблем, Хольтиц вышел из комнаты и спокойно отправился на прощальный ужин.
* * *
В другой комнате отеля хорошенькая темноволосая девушка скользнула в черное шелковое платье, сверкающее серебряными блестками. Определенно, думала двадцатитрехлетняя Цита Креббен, глядя на себя в зеркало, это последнее платье, сшитое ее парижской портнихой, было потрясающим.
Секретарша из Мюнхена была одной из немногих немок, остававшихся в Париже. Элегантность и регулярные хлопоты парижской портнихи делали ее очаровательной женщиной. Через несколько минут, когда она вошла в освещенную свечами комнату, где собрались подчиненные Хольтица, все глаза устремились в ее сторону. Сам фон Хольтиц наполнил бокал кордонружем и предложил тост «за здоровье всех прекрасных немок, чья солидарность в ходе этой войны смягчала ее тяжелые удары».
Все присутствовавшие подняли бокалы. «Волнующий момент», — подумал граф Данкварт фон Арним. Он изучал лица собравшихся: фон Унгер, как всегда холодный и держащий дистанцию; Яй, бодрый даже в этот последний вечер; Клеменс Подевилс, заезжий военный корреспондент, унывающий оттого, что попал в этом городе в ловушку; школьный товарищ Арнима капитан Отто Кайзер, преподаватель литературы из Кёльна, самый мрачный из всех собравшихся. В тот день Кайзер показал Арниму сорванный со стены около «Комеди Франсэз» плакат Сопротивления. Это был прямой лозунг Роля «Каждому по бошу».
Когда они с деланной веселостью болтали, фон Арним заметил, как посыльный вызвал Хольтица из комнаты к телефону.
На другом конце провода Хольтиц узнал едва различимый, но знакомый голос Вальтера Крюгера, товарища еще с довоенных времен, командовавшего теперь 58-м бронетанковым корпусом. Крюгер звонил по полевому телефону из района Шантийи, что в 25 милях от Парижа. «Я еду в Париж, — пошутил Крюгер, — пойдем вместе в „Сфинкс“»[30].
Однако Крюгер звонил не ради этой шутки. Модель приказал ему собрать все имеющиеся в распоряжении 58-го корпуса танки и срочно направить их на помощь Хольтицу. Крюгер был вынужден признаться своему старому другу, что в этот августовский вечер у него не было в наличии танков. Из 120 тысяч человек и 800 танков, с которыми 58-й корпус начал кампанию в Нормандии, уцелела лишь горстка. Потерпев поражение, они в беспорядке отступали по пересеченной местности южнее Шантийи.
Крюгер сообщил Хольтицу, что как раз в это время его офицеры прочесывают прилегающие к городу районы в надежде найти бронетанковую технику, которую ему велено было прислать в Париж. К сожалению, признался Крюгер, в хаосе разваливающегося фронта он вряд ли сможет вовремя найти танки.
Оба замолчали. Крюгер спросил Хольтица, что тот собирается делать. «Не знаю, — ответил командующий Парижским округом. — Положение хуже некуда». Вновь наступила тишина, после чего друзья сказали друг другу: «Переломай себе шею и ноги». Это было старинное немецкое армейское выражение, означавшее «удачи тебе».
45
В сумерках надвигающейся ночи капитан Раймон Дронн увидел впереди неясно вырисовывающуюся надпись из трех слов. Она была на обочине той самой дороги, по которой 129 лет назад Наполеон Бонапарт возвращался домой из изгнания, с острова Эльбы. Надпись гласила: «Париж — Итальянские ворота».
Танки Дронна стремительно пересекли границы города и устремились в Париж. На какую-то долю секунды у рыжебородого капитана мелькнула мысль, что он выиграл гонку длиною в четыре года. Он был первым французским солдатом, вернувшимся домой, в Париж. За его спиной втиснутые в танки и полугусеничные машины бойцы небольшого отряда разразились восторженными криками.
Со всех концов площади Италии сотни парижан, поспешивших было в укрытие, заслышав лязганье гусениц приближающихся танков Дронна, теперь разглядывали эти непривычные силуэты скользящих по площади машин. Поборов замешательство, они вдруг поняли, что у этих солдат не было угловатых касок вермахта. Это были первые освободители Парижа.
«Американцы!» — вскрикнул кто-то, и при этом слове к машинам Дронна с прилегающих улиц, из всех подъездов хлынула бурлящая людская волна.
Пьер Кренес, корреспондент «Французского радио», пять дней назад отбитого бойцами Сопротивления у коллаборационистов, подбежал к первому же солдату, выбиравшемуся из головного танка Дронна «Шанпобер». Держа в руке микрофон, он радостно завопил: «А сейчас вы услышите голос первого французского солдата, первого простого французского солдата, прибывшего в Париж».
Сунув микрофон ошалевшему парню, Кренес задал первый вопрос, который пришел ему в голову в этот торжественный момент: «Откуда вы?»
— Из Константинополя, — ответил рядовой Фирмиам Пирлиан.
Почти час радио передавало безумную смесь из сообщений с мест, слухов и патриотических песен. Желая поскорее разнести по столице весть о прибытии Дронна, электрики на парижских электростанциях включили все рубильники, чтобы передачу могли слышать во всех уголках Парижа.
«Ликуйте, парижане! — кричал Пьер Шаффе на главной студии радиостанции. — Мы вышли в эфир, чтобы объявить вам о нашем освобождении. Дивизия Леклерка вошла в Париж. Мы сходим с ума от счастья!» Чтобы выразить глубину своих чувств, Шаффе продекламировал волнующую и столь подходящую к случаю строфу из «Возмездия» Виктора Гюго:
«Проснись! Покончи с позором!
Стань вновь великой Францией!
Стань вновь великим Парижем!»
С восторженными криками люди выскакивали на улицу, распахивали закрытые ставнями окна, бросались в объятия соседей, с которыми годами не разговаривали. Питаемое мощью парижских электростанций, радио разразилось громовыми звуками «Марсельезы». И тогда произошло нечто невероятное: в сотнях тысяч домов парижане, не сговариваясь, включили свои приемники на полную мощность и распахнули окна.
![Ричард Пратер - Торговец плотью [= Торговец живым товаром]](/uploads/posts/books/248498/248498.jpg)