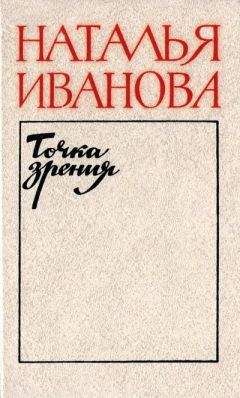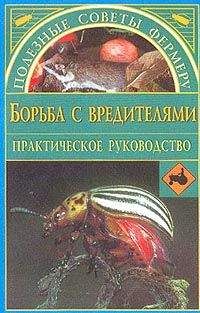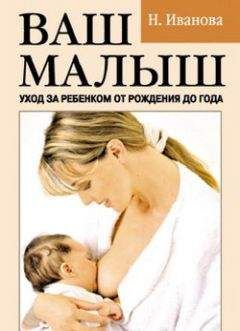Наталья Иванова - Ностальящее. Собрание наблюдений
И на той и на другой даче вы не найдете никаких следов роскоши — более чем скромна обстановка, хороши лишь рисунки отца, прекрасного художника Леонида Пастернака, уехавшего из России в начале 20-х и скончавшегося в Оксфорде в 1945-м. Корней Чуковский больше всего любил работать, сидя на маленьком деревянном балкончике, а в холод — заходя на закрытую терраску, за что и был прозван «кукушкой».
В какой-то из «застойных» годов в Переделкине на зиму поселился Андрей Битов — и не смог работать: как художник, как человек более чем впечатлительный, он решил, что весь пейзаж в Переделкине «выпит» Пастернаком.
Можно сказать, что все Подмосковье в каком-то смысле «выпито»: по каждой дороге — усадьбы знаменитых поэтов, дачи художников, любимые поляны композиторов, речки артистов… И это тоже — в радость: потому что мы — с детьми, с гостями — объезжаем окрестности, впитывая пейзаж их жизни, воздух их вдохновения. И, возвращаясь к себе на дачу, ставим чайник, а лучше того — самовар, садимся на деревянное крыльцо, смотрим на заполонившие сад травы (в этом году, под ливнями, иные из сорняков вымахали повыше кустов, и несчастные розы утопают в травах), дышим вечерним воздухом и ждем, что сейчас откроется калитка, приедет еще один запоздавший гость — и, присев к столу, расскажет свои новости или просто помолчит, глядя на верхушки елей, которые сорок пять лет тому назад посадил здесь отец моего мужа. За забором уже начинается лес, в котором — удивительно, но факт — расположен корт, и слышно, как упруго отлетает теннисный мяч от ракетки, как азартно кричат игроки; еще слышно, как пролетает запоздавший шмель, перекрывая гудение самовара. Пройдет мгновенье — зазвонит телефон или ТВ ошпарит нас известиями об очередной катастрофе, — но пока мы еще дачники, простые, но тоже гениальные, потому что гениально пьем чай, и тени тех, кто жил здесь до нас, пьют этот воздух вместе с нами.
Конец письменности
Русская литература приучила нас к тому, что страдание и есть счастье. Мазохизм — не главный ли урок, преподанный нам великими? Достоевским, Толстым, Чеховым, а в нашем веке Андреем Платоновым и Борисом Пастернаком? И не только ими…
«Своею жертвой путь прочертишь…»
«Если только можно, Авва Отче, / Чашу эту мимо пронеси…»
На самом деле — чашу испивали, а читатели — чашей упивались.
Именно поэтому жертва Цветаевой, например, или жертва Ахматовой так существенны: до сих пор косточки обгладываем, и с удовольствием!
Реклама изо всех сил пытается поменять парадигму нашего существования. И предпринимает это по отдельности: с мужчинами и с женщинами.
Прокладки «Always Plus» — это то, что вам нужно для счастья, внушают нам Аня Попова или Наталья Смирнова, обыкновенные русские молодые женщины с непрекращающимися «критическими днями».
Она улыбается, она светится радостью открытия, она счастлива, — о ней, наконец, позаботились, и уже никто и никогда этого удовольствия не отнимет.
Наши бабушки не понимают: более того, им это счастье представляется предосудительным. Внутри латиноамериканских «мыльных опер», где речь идет о судьбе несчастного крошки, рожденного очередной Марией неизвестно от какого Хозе, — и вдруг расплывающаяся в улыбке физиономия отечественной Ольги! Что она такого уж необыкновенного попробовала? «Я попробовала прокладки «Always Plus» с крылышками, и теперь мое белье всегда чистое». Бабушки оскорблены в лучших чувствах — ведь крылышки бывают только у ангелов, от которых их всю жизнь избавляли…
Идеология индивидуального материального счастья идет на смену идеологии коллективной жертвы.
Эта смена жизненной женской парадигмы соседствует со сменой парадигмы мужской.
«Но пораженья от победы / Ты сам не должен отличать».
Не отличали.
Оказались заложниками своего пораженья, из советского комплекса сверхполноценности («Я другой такой страны не знаю, / Где так вольно дышит человек») въехали в постсоветский комплекс неполноценности (поражение в «третьей мировой», холодной войне).
Теперь — вас ведут к победе мужские одеколоны из серии «Клуб»!
Для тех, кому важна победа!
Для тех, кому важна победа не только в спорте!
Теннисная ракетка зависла над мячом — хоккейная клюшка над шайбой — рука баскетболиста с мячом над корзиной — остановленное мгновенье перед счастливым ударом.
Идеология успеха доминирует над идеологией жертвенности.
Невидимый соперник (очень важно, что невидимый — он ведь тоже мужчина, а в нашей сегодняшней игре не должно быть побежденных) разгромлен.
Этот соперник — привычное, депрессивное состояние неудачи.
Побеждают все!
И вот уже возникает Она — как суперприз; она чуть поводит своим аккуратным носиком, она встряхивает кудряшками, она чует, она вдыхает этот запах счастья, этот аромат победителя, которому будет принадлежать с потрохами, — одеколоны из серии «Клуб»: вот истинный организатор и вдохновитель наших мужских побед!
Всем женщинам — по прокладке, всем мужчинам — по флакону, и мы заживем (уже — живем) полнокровной, настоящей жизнью.
Вот почему у нас становится все меньше подписчиков «толстых» журналов: никто не хочет — и не должен теперь — мучиться, напрягая свои бедные мозги. Тем более, что неприятную тему страдания упорно продолжает и новейшая русская словесность.
Зачем? Зачем писать?
Ведь чернила проходят через страницы, не оставляя их чистыми — навсегда.
Дворик
По утрам, по пути к метро, я прохожу по диагонали двор огромного шестнадцатиэтажного дома на Олимпийском проспекте. Двор, в котором деревья были посажены два десятилетия тому назад, полон зелени, в тени которой на резных скамейках восседают несколько пожилых дам, обсуждающих последние новости в политике, воспитании внуков и кулинарии. Если я возвращаюсь поздно вечером, то на месте дам обнаруживаю молодых людей из своего и соседних подъездов, обсуждающих последние события, важные для своего поколения. И — собак, выгуливающих своих хозяев. Собак в доме живет много, и по вечерам двор превращается в оживленный собачий клуб. Что же касается дневного времени, то оно принадлежит детям.
Я ни с кем в своем дворе не знакома. Нас всех ничто, кроме общего пространства двора, не объединяет. Соседство по двору в старомосковском понимании этого слова утрачено.
Я родилась совсем неподалеку от дома, где я теперь живу, и каждое утро прохожу мимо того места, где был дворик моего детства. Сейчас там стоят совсем другие дома, дворик исчез и существует только в моей памяти. Но существует очень явственно, потому что двор — это первое, что я помню.
В этом дворике стоял двухэтажный дом моего прадедушки, который постепенно заселяли новыми и новыми жильцами — и в конце концов нашей семье оставили всего две комнаты в одной из ставшими коммунальными квартир.
Двор состоял из таких же двухэтажных домиков, а посреди него росли деревья и кусты и целое лето цвели цветы, заботливо высаживаемые обитательницами: от весенних крокусов и буйной сирени до золотых шаров. В кустах сирени и жасмина стояли деревянные столики, где длинными летними вечерами соседи вели нескончаемые разговоры. Телевизоров не было почти ни у кого.
В одном из таких московских двориков, на Беговой, на первом этаже двухэтажного коттеджа после возвращения из сталинских лагерей и ссылки поселился Николай Заболоцкий. Сохранилась фотография: Заболоцкий, больше похожий на бухгалтера, чем на поэта, поливает цветник, высунувшись из своего окна со шлангом.
Жизнь была, как всегда, умнее режима — и двор был той средой, где в отличие от официоза службы можно было оставаться просто человеком.
Московский дворик, его атмосфера живут и в одном из стихотворений Бориса Пастернака:
В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?
Официальной критикой за эти строки Пастернак был обвинен в преступном равнодушии к советскому времени.
Двор был таким странным оазисом среди советской городской жизни, миром, где были свои лидеры и свои изгои, свои богачи (сравнительно с бедняками) и бедняки (сравнительно с дворовыми богачами). У нас, например, был рояль, сгоревший потом при очередном московском пожаре (старенькие домики горели весело и быстро): значит, мы были «богатые». Обязательно был свои знаменитый ученый, свои военный, свой сумасшедший, над которым беззлобно посмеивались, но которого все жалели и подкармливали.
На задах двора стояли сарайчики, в которых хранились запасаемые на зиму дрова. Я просыпалась зимой оттого, что крестная вносила в комнату березовые поленья, пахнущие морозом, и разжигала печь.