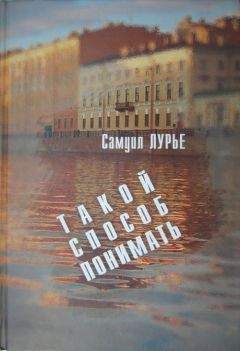Самуил Лурье - Железный бульвар
И т. д. Ни этих строф, ни, само собой, «Лолиты» не прочитав, бедная Элеонора тем не менее в том же 1836 году, в начале мая (когда весенний первый гром), почувствовала «неизъяснимую тоску и желание освободиться от нее во что бы то ни стало… Принявшись шарить в своих ящиках, она напала вдруг на маленький кинжал, лежавший там с прошлогоднего маскарада. Вид стали приковал ее внимание, и в припадке полного исступления она нанесла себе несколько ударов в грудь… Истекая кровью и испытывая ту же неотвязную тоску, она спускается с лестницы, бежит по улице и там, в 300 шагах от дома, падает без чувств…»
Умерла она, впрочем, только в 1838 году, после пожара на пароходе, долго рассказывать.
Тютчев был буквально убит (по семейной легенде — поседел за одну ночь), буквально сходил с ума (в письмах к Жуковскому и другим) и появился на публике об руку с баронессой Дёрнберг только через полгода.
Тотчас же Клотильда Ботмер, взявшая было осиротевших племянниц к себе, уведомила его письмом, что приняла предложение барона Мальтица.
Это было очень кстати: ввиду беременности Эрнестины откладывать венчание на сколько-нибудь приличный срок не приходилось. Тютчев написал министру:
«Мною было принято твердое решение надолго еще отсрочить этот шаг. Однако одно обстоятельство, касающееся моих детей, поневоле вынуждает меня к другому решению. Я поручил их прошлой осенью заботам своей свояченицы, графини Ботмер, живущей в Мюнхене. Последняя в будущем месяце выходит замуж и тотчас же после свадьбы должна уехать из Мюнхена в Гаагу. Итак, я вижу себя вынужденным, взяв их к себе, как можно скорее озаботиться о том, чтобы доставить им необходимый уход и надзор, которые я один не мог бы им обеспечить…»
Вот, стало быть, и дети пригодились. И были вознаграждены. Во всяком случае, их дедушку и бабушку (своих то есть папеньку и маменьку) в далеком Овстуге Тютчев порадовал:
«…Меня охраняет преданность существа, лучшего из когда-либо созданных Богом… Я не буду говорить вам про ее любовь ко мне; даже вы, может статься, нашли бы ее чрезмерной. Но чем я не могу достаточно нахвалиться, это ее нежностью к детям и заботой о них… Утрата, понесенная ими, для них почти возмещена. Тотчас по приезде в Мюнхен мы взяли их к себе, и две недели спустя дети так привязались к ней, как будто у них никогда не было другой матери…»
Впоследствии оказалось, что всё не так замечательно. И старшая дочь — Анна — записала монолог:
«— Первые годы твоей жизни, дочь моя, которые ты едва припоминаешь, были для меня годами, исполненными самых пылких чувств. Я провел их с твоей матерью и Клотильдой. Эти дни были так прекрасны, мы были так счастливы! Нам казалось, что они не кончатся никогда. Однако дни эти оказались так быстротечны, и с ними все исчезло безвозвратно. Теперь та пора моей жизни — всего лишь далекая точка, которая отдаляется все более и более и которую настигнуть я не могу…»
Предстоял еще роман, и за ним — трагикомическая старость.
В которой под конец — после всего — случилось и свидание с г-жой Мальтиц. И было воспето подобающим образом — с галантным таким, расслабленным умилением:
…Как после вековой разлуки
Гляжу на вас, как бы во сне,
И вот — слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне…
Вообще так себе стишки — тенором, тенором! — если бы не инициалы К. Б. над ними да не восклицательный знак в конце:
Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, —
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..
Из наслаждений жизни любовь уступает лишь иностранным газетам.
Но хорошо, что предсказание ни одно не сбылось.
2006
ПАРАДОКС ЧЕРНЫШЕВСКОГО
Нет, не автор «Идиота» проронил, словно нарочно для нынешних пошлецов, вплоть до телерекламы конфекциона: мир спасет красота, — не автор, а один из персонажей, причем в бреду: он слышал от кого-то, будто есть у главного героя — тоже, кстати, не всегда вменяемого — такая фраза или такая мысль.
И не Чернышевский высказал категорический императив советской школьницы: умри, но не давай поцелуя без любви! — нет, не Чернышевского скрипучий голос произносит эти — золотые, впрочем, французские слова, — а щебечет их некая Жюли, уличная в прошлом проститутка, прибывшая из Парижа в Петербург на ловлю счастья и чинов.
И точно так же, я полагаю, не одному Набокову принадлежит блестящий очерк о Чернышевском в романе «Дар»: молодой поэт Годунов-Чердынцев сочинил этот очерк и едва ли не считает его тоже романом. (Вот, например, выходка дилетанта: он скорбит, что рукопись «Что делать?», оброненная Некрасовым, подобранная прохожим, — не погибла в сугробе или же в печи; Набоков, разумеется, позволил бы себе на этот сюжет шутку, в знак презрения к скверной прозе ложного классика, — но Годунов-то его Чердынцев своему герою как бы по-настоящему тут, видите ли, сострадает, неизвестно с какой стати вообразив, будто, потеряйся «Что делать?» и не расхвали книгу Писарев, — жизнь Чернышевского прошла бы веселей.)
И кто читал роман «Пролог» — правда, читателей таких немного на свете, а скоро не будет ни одного, — тот знает: не сам Чернышевский, а другой литератор, по фамилии Волгин, и не за письменным столом, а в аристократическом салоне — на тусовке российской политической элиты 1857 года — на неформальной встрече лидеров и богачей ради дискуссии об условиях освобождения крестьян — и уже поняв, какие это будут условия: неизбежно самые невыгодные для всех, и крестьян и помещиков, и для страны, потому что реальная власть — у ничтожеств, движимых исключительно шкурным и притом копеечным интересом, — и уже поняв, что делать ему тут нечего, — с тяжелым сердцем, чуть ли не со слезами этот Алексей Иванович Волгин про себя твердит фразу, навлекшую на Н. Г. Чернышевского столько клевет:
«Жалкая нация, жалкая нация! — Нация рабов, — снизу доверху, все сплошь рабы… — думал он и хмурил брови».
Тут не вся мысль Волгина, Волгин же — не весь Чернышевский, — хотя очень похож, как бы автопортрет от лукавого (и явно с Волгина писал своего Чернышевского двойник Набокова). Волгин изображен с нестерпимым кокетством — как ведут себя в романах Диккенса застенчивые филантропы: только и думает, как он нелеп и некрасив, и какой сухарь и трус, — и будто бы совершенно не замечает нечеловеческого благородства своих поступков и побуждений; очевидно, что Чернышевский Волгина этого нарочно на себя наговаривает: во-первых, из нечеловеческой же якобы скромности, во-вторых — якобы для цензуры и конспирации, в-третьих — именно чтобы читатель догадался полюбить автора еще сильнее, чем героя… но главное — конечно, был гордец.
На следующей же странице о Волгине сказано: «Он не считал себя борцом за народ: у русского народа не могло быть борцов, по мнению Волгина, оттого что русский народ неспособен поддерживать вступающихся за него; какому же человеку в здравом смысле бывает охота пропадать задаром?»
На вид — вопрос вполне риторический. Здравый смысл со вздохом отворачивается, встает, уходит — умывать руки, пить водку, ждать будущего века: что же делать, коли делать нечего!.. Но в спину ему тот же скрипучий голос продолжает: «…о себе Волгин твердо знал, что не имеет такого глупого желания, и никак не мог считать себя защитником народных прав. Но тем меньше и мог он делать уступки за народ, тем меньше мог не выставлять прав народа во всей их полноте, когда приходилось говорить о них».
Вот он, парадокс Чернышевского. Есть совесть ума, и для своего собственного самосохранения — в сущности, из чистого эгоизма — из циничного, если угодно, расчета — ум вынужден эту интеллектуальную совесть ублаготворять, то есть высказывать ее требования, даже с опасностью для черепной коробки: ум себе дороже.
Ну что же делать, если случайность рождения забросила тебя в историческое прошлое, лет на триста или на тысячу назад, в империю, населенную несчастными, злыми дикарями? Наслаждаться дефицитными прелестями импортной цивилизации — под полицейским надзором и, главное, за чужой счет, ценою бесчисленных жизней? Аристотель умел, и какой-нибудь Цицерон умел, — но ведь они-то жили в своем времени, они-то не знали, что рабы тоже люди, а сверх того полагали Глупость вечным двигателем Судьбы. А в XIX столетии доказано — и лично Чернышевский экспериментом проверил, — что вечный двигатель невозможен и, вероятно, даже Глупость не бессмертна и вроде как подчиняется второму закону термодинамики. А овладев знанием, ум ни за что не откажется от него — и требует жертв.
Вот и выходит — чем притворяться рабом, умней бесславно и бессмысленно погибнуть. Потому что есть гордость ума и потому что одному из пророков недаром сказано: держи лицо твое, как кремень.