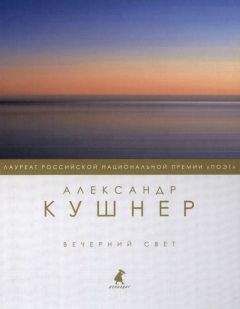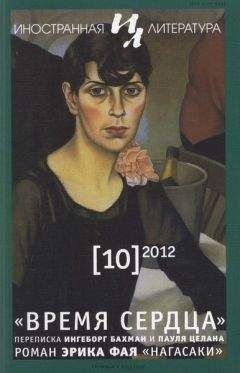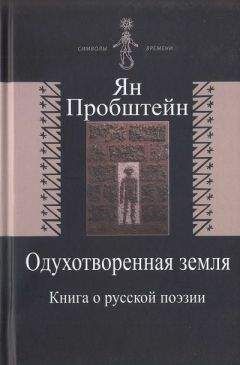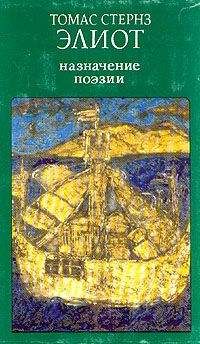Александр Скидан - Сумма поэтики (сборник)
Прогноз Валери оправдывается еще и в следующем отношении. По мере того как мир объединяется благодаря средствам массовой коммуникации, Всемирной паутине и проницаемости государственных границ, становится, как говорят, глобальным, а национальные культуры перемешиваются, теряя строгие очертания и всё чаще порождая некий вне-, надили интернациональный художественный продукт, – поэзия, наоборот, замыкается в рамках локальной традиции, как в гетто, не в силах преодолеть культурно-языковой барьер. После сюрреалистов и, с известными оговорками, битников не возникло ни одного поэтического движения, которое вызвало бы выходящий за рамки локальной традиции общественный резонанс и могло бы претендовать на статус мирового явления. Ни итальянские герметики, ни немецко-австрийские конкретисты, ни французские леттристы, ни американская «language school», ни латиноамериканские поэты необарокко, ни другие национальные поэтические школы по своему влиянию не идут ни в какое сравнение с символистами, футуристами, дадаистами. (Это не означает, разумеется, что после сюрреалистов или обэриутов не было значительных или даже великих поэтов, – может быть, как раз наоборот. Но речь сейчас не о них.) Иными словами, современное искусство как индустрия, говоря языком социологии, обладает преимуществом вертикальной мобильности, оно предлагает выход непосредственно на международный рынок, тогда как поэзия вынуждена довольствоваться национальной символической экономикой. Символической в буквальном смысле, т. е. в лице нескольких тысяч, а то и сотен, преданных ценителей, преимущественно из числа коллег. И это экономика закрытого типа, соответствующая герметичности (и герметизации) локальных поэтических традиций и самой поэзии как вида творческой деятельности внутри расширенного – и продолжающего расширяться – культурного производства. «Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу» – эти слова воспринимаются сегодня не как уникальный опыт поэта-эмигранта, выброшенного в чуждую лингвистическую и метафизическую среду и тем самым лишенного законной аудитории, а как универсальная констатация положения дел в поэтическом хозяйстве, которое предстает анахронизмом, своего рода натуральным хозяйством (перо! бумага!) в эпоху перманентной индустриальной революции, промыслом, по любимому выражению Дмитрия Александровича Пригова.
Подведем некоторые итоги. Центр творческой активности переместился в визуальное искусство, поскольку: 1) оно непосредственно отражает, частично с ней совпадая, новую техногенную среду, каковая, в свою очередь, 2) является проводником мобилизации церебральных и сенсомоторных ресурсов человека, наряду с земными недрами и космическим пространством; 3) соответствует господствующему режиму темпоральности и синтетического восприятия, задаваемому массмедиа; 4) вписано в культурную индустрию, а следовательно, 5) в машину капитализма, осуществляющую детерриториализацию любых идентичностей, центрированных на лингвистической компетенции, которую заменяет 6) расширенное воспроизводство и потребление аудиовизуальных образов, 7) каковое становится актуальной зоной эксперимента с коллективным бессознательным, структурированным отныне не как язык (Лакан), но как вынесенный вовне сенсориум, экранированная эктоплазма, центр которой нигде, а аффект – везде. (Каковы онтологические или нейрофизиологические предпосылки такой реконфигурации, отдающей привилегированное место аудиовизуальному образу перед словом, письменным либо звучащим, – это отдельный вопрос, способный увести нас далеко[201].)
Что выпадает перед лицом этой машины на долю поэзии? Прежде всего, и это очевидно, – исключение из нее. Но разве подобное исключение внове? Разве не изгонял поэтов из города еще Платон? От Овидия до Данте, от «я всеми принят, изгнан отовсюду» Вийона до «мы в изгнанье» Гёльдерлина, от Тассо на цепи до Паунда в клетке, от «все поэты – жиды» Цветаевой до скитаний Целана, – разве не встречаемся мы с одной и той же фигурой исключения? И это не романтическая фигура, не исторический «диспозитив», вызванный к жизни особыми – преходящими – обстоятельствами (тирания, государственный произвол). Стихотворение уже само по себе есть изгнание из мира, и отдающийся безобидной, вроде бы, поэтической игре свидетельствует тем самым о готовности пребывать вне закона, вне порядка истины и поддерживающей ее коммуникации, быть выброшенным вовне, в том числе самого себя. Он рискует чем-то предельным, чем-то, что больше рассудка и помрачения, больше жизни и смерти, даже «беззаконных восторгов» самой поэтической игры, и во все времена переживает «скудное время», время невзгод и беды: зажечь беду вокруг себя, впустить ад бессмыслицы, ад диких шумов и визгов, свою голову есть под огнем, обглоданную крысами голову Орфея. Это – удача. Но почему? Почему время невзгод – это удача, и притом неслыханная? И почему Гёльдерлин? Потому что, по крайней мере для Хайдеггера, мыслившего сущность техники и судьбу Запада как закатной страны, в Гёльдерлине, как ни в каком другом поэте, еще ощутима связь с греческим истоком «пойесиса», связь через развязывание, разлуку; его гимны, созданные на пороге новой, индустриальной эры, окликают раннюю рань, когда «искусство» носило имя «технэ» и принадлежало тем самым «пойесису»[202]. Этот хиазм, это блуждающее соединение-в-отлученности искусства и техники, пронизывает собой всю историю Запада, раскрывая и делая явственным «без места» поэтического речения, некогда бывшего посредником (медиумом) между людьми и богами, землей и небом. Держаться этого «без места», этого ширящегося зияния, в которое отпущена отныне скитаться «поверхность песни», – значит, по-видимому, желать невозможного; но, быть может, невозможное – единственное достояние и участь поэта, т. е. того, кто должен «нести на себе груз двойной измены и удерживать обе сферы на расстоянии друг от друга, живя именно этим разделением, став чистейшим воплощением этой отделенности, поскольку пустое и чистое место, разграничивающее две сферы, и есть сакральное, глубина разрыва – вот что такое теперь сакральное»[203]. Поэзии еще предстоит изобрести способы пребывать в сердце этой абсолютной разорванности, вынести ее как открытость будущему и, кто знает, будущим – коллективным – действиям (уже без кавычек).
Ребенок-внутри
Еще раз о «Легком дыхании»[204]
Девушки падают в снег. Сначала одновременно (общий план: прогалина или поляна в лесу), затем по отдельности (крупный, позволяющий разглядеть их спокойные, словно бы «отлетевшие» лица, усыпанный иголками снег, детали одежды). Они – в разноцветных, разного кроя летних платьях (у всех обнажены руки), под которыми надеты джинсы, что придает их облику тревожную неопределенность: «приземленность» и вместе с тем, условно скажем, «надломленность». У одной из них на платье в районе сердца пульсирует, расплываясь, вышитое красным бисером пятно; у другой горло перехвачено черной бархоткой-гарротой; у кого-то вывернулся ложный карман, приоткрыв инкрустированную в подол (приклееннyю, как переводная картинка), на уровне бедра, фотографию. Падают чуть замедленно, с неотступностью наваждения, в синий снег. На одном из платьев – краешек видимого с изнанки рукописного текста, который не поддается прочтению. «Легкое дыхание»? Дневник Оли Мещерской?
Видеоинсталляция Глюкли отсылает к одноименному рассказу Бунина; правда, по признанию самой художницы, к рассказу это имеет лишь «косвенное и субъективное» отношение[205]. Однако в этих «косвенности» и «субъективности» присутствует нечто парадигматическое, стилеобразующее для всего творчества художницы в целом. Она часто обращается к литературным источникам, прежде всего к русской классике[206], при этом, что характерно, избегает прямых коннотаций или «интерпретации». Скорее, тут следует говорить о легком, мимолетном касании смысла литературного произведения – касании, оставляющем этот смысл нетронутым. В силу чего (и это принципиально «слабая» сила) «Легкое дыхание» представляется мне программной работой. Не случайно Глюкля возвращается в ней к сквозному образу гимназистки: с него она начинала свою артистическую карьеру, он стал неотъемлемой частью ее персональной мифологии[207]. В то же время она выходит за рамки этой условной мифологии, позволяя еще и по-новому, иными глазами посмотреть на классическое литературное произведение, увидеть в нем то, что оставалось скрытым, неартикулированным в многочисленных прочтениях, некоторые из которых, как, например, прочтение Л.С. Выготского, также заслуженно обрели статус классических.
«Иными глазами». В данном случае это означает – с точки зрения женщины. Проблематичная перспектива – в той мере, в какой проблематична сама «женщина» со всеми ее культурными детерминациями. Невозможно обрести «женскую оптику» по желанию, одним махом. Поэтому я буду придерживаться смешанной стратегии, поочередно обращаясь и к «Легкому дыханию» Бунина, и к его видеоверсии, попутно выявляя – и практикуя – проступающую за этой последней тактильную тактику, тактику «касания». Одновременно удерживая в качестве горизонта сводный, – на мой взгляд, подводящий итог очередному этапу исследований – анализ Бунина, предложенный Андреем Щербенком в его новейшем обзоре механизмов конструирования истории русской литературы[208].