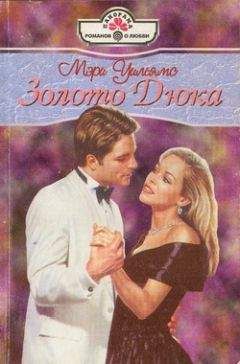Леонид Переверзев - Гряди, Воскресенье - христианские мотивы в джазе Дюка Эллингтона
Не рассыпаться на куски
Теперь рассказчик и Сонни уже из окна квартиры смотрят , "как на другой стороне улицы заканчивается собрание. Три сестры и брат, склонив головы, пели "Храни вас Бог до новой встречи с нами". Лица слушающих казались отрешенными. Потом песня кончилась, кучка людей рассеялась... три женщины и одинокий мужчина медленно шли по улице. - Когда она пела, сказал Сонни резко, будто пересиливая себя, - ее голос на минуту напомнил мне то, что чувствуешь под героином, когда он в твоих венах. От него то жарко, то холодно. И уходишь куда-то. И... появляется уверенность... Иногда без этого чувства не обойтись... Некоторым это нужно. - Чтобы... играть? - ...Дело не в игре даже, а в том, чтобы продержаться, вытянуть. Вытянуть во всем. - Он нахмурился, потом улыбнулся. - Не рассыпаться на куски... Когда я слушал эту женщину, меня вдруг словно ударило: сколько же она должна была перестрадать, чтобы так петь. Тошно делается, как подумаешь, что люди столько страдают... Да, избежать страданий нельзя. Но люди бьются, барахтаются, идут на все, чтобы не потонуть в страдании, чтобы удержаться на поверхности и делать вид... в общем, как ты. Как будто человек что-то натворил и за это страдает. Ты понимаешь? ...Скажи, ты понимаешь, - его голос требовал ответа, - за что страдают люди? - Прошу тебя, поверь мне в одном, - сказал я, - я не хочу видеть, как ты... бежишь от страданий... в могилу. - Я не побегу от страданий в могилу, - сухо заметил Сонни, - а если и побегу, то не быстрее других... Иногда так жутко бывает на душе, вот ведь беда в чем. Бродишь по этим улицам, черным, вонючим, холодным, и поговорить не с кем, ни одной живой задницы нет, и хоть бы что-то стряслось, и не знаешь, как от этого избавиться - от этого урагана внутри тебя. Не можешь рассказать о нем и не можешь с ним любить, а когда, в конце концов, пробуешь прийти в экстаз и передать все в игре, оказывается, что тебя некому слушать. И приходится слушать самому, и ты слушаешь... Бывает, что ты готов на все, лишь бы играть, - готов даже перерезать горло собственной матери. - Он засмеялся и посмотрел на меня: - или своему брату. - Потом вдруг сразу протрезвел: - или себе самому. - И после короткого молчания добавил: - Ты не волнуйся. Сейчас у меня все в порядке, и думаю, что так и останется. Но я не могу забыть...где побывал. Не физически, а - где я был и в чем я был... Знаешь, иногда я был где-то далеко-далеко, я чувствовал, что вот оно, во мне, ты понимаешь? И тогда я играл... нет, даже не я: оно само лилось из меня, было во мне - и все... в те времена случалось, что я делал с людьми страшные вещи... А бывало, я оставался без приюта, без места, где преклонить голову, где можно было бы слушать; я не мог найти такого места и сходил с ума, делал с собой страшные вещи, был страшен для себя... Я был один, совсем один на дне чего-то, вонючий, потный, плачущий, трясущийся, и нюхал ее понимаешь ты? - нюхал собственную вонь и думал: умру, если не смогу вырваться из нее, и в то же время знал: что я ни делаю, я только глубже и глубже в ней увязаю. И я не знал... Не знаю, до сих пор не знаю, в чем тут дело... Но что-то мне все время нашептывало, что, может, это так и нужно нюхать собственную вонь, но я считал, что стараюсь не делать этого, и... кто бы мог это вынести? И он замолчал.. Солнце ушло, густели сумерки. Я смотрел на его лицо. - Все может начаться заново, - словно про себя сказал Сонни. - Все может начаться заново. Хочу, чтобы ты это знал. Он снова повернулся к окну и стал смотреть. - Сколько ненависти, - сказал он, сколько ненависти, нищеты и любви! Чудо, что они еще не взорвали эту улицу".
"Разве я грущу?"
Среди шума и гама, алкогольных паров и клубов табачного дыма "огромный черный человек" - их контрабасист и лидер по прозвищу Креол, бывший на много лет старше всех; небольшой, коренастый, черный как уголь барабанщик и другие члены ансамбля, дурачась в полусумраке кабака около подмостков, словно нарочно оттягивали начало работы. "Свет эстрады не попадал на них, хотя был совсем рядом; и когда я смотрел, как они смеются, жестикулируют и ходят, что они все время страшно заботятся о том, чтобы не вступить в круг света; будто если кто-то из них войдет в этот круг слишком стремительно, не раздумывая, он тут же погибнет в пламени." Первым маленький крепыш вступил туда и принялся возиться с барабанами, а потом, "паясничая и в то же время очень церемонно, Креол взял Сонни за локоть и повел к роялю. Женский голос выкрикнул имя Сонни, кто-то захлопал, и Сонни, тоже паясничая и тоже очень церемонно, но тронутый, по-моему, до слез, - хотя он вовсе не старался показать это всем и каждому и не старался скрыть, а держал себя, как подобает мужчине, - Сонни заулыбался во весь рот, приложил обе руки к сердцу и низко поклонился. Креол пошел к контрабасу, а другой, худощавый и светло-коричневый, одним махом взлетел на эстраду и взял в руки трубу. Теперь все они были на своих местах, и атмосфера на эстраде и в зале стала меняться, густеть. Кто-то подошел к микрофону и объявил их. Голоса затихли не сразу, и у стойки зашикали. Официантка как безумная носилась между столиками, принимая последние заказы, парочки начали усаживаться потесней, и свет, падавший на эстраду, стал синим. В нем, в этом свете, все четверо казались теперь совсем другими. Креол в последний раз обвел взглядом эстраду, словно желая удостовериться, что весь его курятник на насесте, подпрыгнул и ударил по контрабасу. И они начали. Я знаю о музыке лишь то, что не много найдется людей, которые по настоящему хоть раз ее слышали. И даже в тех редких случаях, когда что-то отворяется внутри нас и музыка входит, то, что нам слышится в ней или что говорят нам о ней другие, - всего лишь личное, частное, преходящее. Но человек, который творит музыку, слышит иное, он вступает в единоборство с ревом, поднимающимся из бездны, и обуздывает его в тот миг, когда этот рев готов сотрясти воздух. То, что слышит он, - совсем иного порядка, более страшное, потому что без слов, и потому торжествующее. И когда торжествует творящий музыку, его торжество также и наше. Я не сводил взгляда с лица Сонни. Лицо у Сонни было смятенное, он старался вовсю, но вдохновение не приходило. И мне казалось, будто все на эстраде ждут его - ждут и в то же время подталкивают. Но, приглядевшись к Креолу, я понял, что это он, Креол, всех их сдерживает. Он их держал на коротком поводке. Там, на эстраде, отбивая такт всем своим телом, причитая на струнах, с полуприкрытыми глазами, слушая всех, он слушал Сонни. Между ним и Сонни шел диалог. Он хотел, чтобы Сонни оторвался от берега и вышел на глубокую воду. Он свидетельствовал, что тот, кто плывет по глубокой воде, не обязательно должен был потонуть: он бывал там и знает. И хочет, чтобы Сонни знал тоже. Он ждал, чтобы пальцы Сонни на клавишах сказали ему, Креолу, что Сонни уже плывет. А пока Креол слушал, Сонни где-то глубоко внутри себя маялся, как под пыткой. До этого я никогда не задумывался над тем, как страшны отношения между музыкантом и его инструментом. Он должен наполнить его, этот инструмент, дыханием жизни, собственным своим дыханием. Он должен заставить его выполнять то, что он, музыкант, хочет. А рояль - это всего лишь рояль, столько-то дерева, проволоки, больших молоточков и маленьких, и слоновая кость. Ты можешь выжать из него столько-то, и не больше, но единственный способ узнать, сколько именно, - это снова и снова заставлять его делать все, что только можно. А ведь прошло уже больше года с тех пор, как Сонни последний раз сидел за роялем. И ненамного лучше, чем тогда, ладил он теперь со своей жизнью, во всяком случае с той, что простиралась перед ним. Он и инструмент запинались, бросались в одну сторону, пугались, останавливались; бросались в другую, ударялись в панику, кружили на месте, начинали сначала; вот они как будто нашли направление, но нет, снова заметались в панике, опять застряли... И все же, наблюдая за лицом Креола, когда заканчивался первый номер, я почувствовал: что-то случилось, что-то, чего уши мои не услышали... почти без паузы Креол начал нечто совсем другое, оно звучало прямо-таки сардонически - "Разве я грущу?" И, будто по команде, Сонни начал играть."
Чаша гнева
Что-то стронулось - и Креол отпустил поводья. Сухой маленький черный человечек сказал что-то страшное на своих барабанах. Креол ответил, барабаны огрызнулись. Труба начала настаивать нежно и тонко, немного отчужденно, быть может, - и Креол слушал, комментируя время от времени, сухой и сумрачный, спокойный и старый. А потом все они встретились снова, и Сонни снова стал одним из членов семьи... Как будто нежданно-негаданно он обнаружил под своими пальцами новехонький рояль, черт те откуда взявшийся. Как будто он прийти в себя не мог от этого открытия. И какое-то время, радуясь за Сонни и позабыв обо всем остальном, они словно соглашались с ним в том, что да, новехонькие рояли - это просто здорово. Потом Креол выступил вперед и напомнил им, что играют они блюз. Он затронул что-то в каждом из них, затронул что-то во мне, и музыка стала пружинистей и глубже, а воздух запульсировал ожиданием. Креол начал рассказывать нам что такое блюз и о чем он. Оказывается, не о чем-то очень новом. Новым делали блюз он сам и его мальчики, которые там, над нами, рискуя безумием и смертью, искали новые пути заставить нас слышать. Ибо хотя повесть о том, как мы страдаем и наслаждаемся, и о том, как мы торжествуем победу, совсем не нова, мы должны слышать ее снова и снова. Другой нет, в этом мраке нет для нас другого света. И повесть эта, как утверждали его лицо, его тело, его сильные руки на струнах, меняет свое обличье от страны к стране и становится все глубже и глубже от поколения к поколению. Слушайте, казалось, говорил Креол, слушайте: сейчас будет блюз Сонни. Он сообщил об этом маленькому черному человечку на барабанах и другому, светло-коричневому, с трубой. Креол больше не подталкивал Сонни к воде - он желал ему счастливого плавания. А потом он отступил назад, очень медленно, заполнив воздух смелым призывом: пусть Сонни скажет за себя сам. Они собрались вокруг Сонни, и Сонни играл. То один, то другой из них, казалось, говорил: аминь. Пальцы Сонни наполнили воздух жизнью, его жизнью, но эта жизнь вмещала в себя так много других! И Сонни вернулся к самому началу и начал с простого и ясного - с первой фразы песни. А потом он начал делать ее своей. Это было прекрасно, потому что он делал это не торопясь и потому что теперь в этом не было и следа страдания. Слушая, я будто узнавал, с каким гореньем он достиг этого, и какое горенье нужно нам, чтобы тоже достичь, и как нам избавиться от страданий. Свобода была где-то тут, совсем рядом, и мне стало ясно наконец, что он может помочь нам стать свободными, если только мы будем слушать, что сам он не станет свободным, пока не станем свободны мы. Но полем битвы лицо его больше не было. Я знал теперь, что он прошел и через то, что ему предстоит пройти, прежде чем его тело упокоится в земле. Он овладел ею, этой длинной нитью, из которой мы знали только отца и мать, и сейчас он отдавал ее - как должно быть отдано все, чтобы, пройдя через смерть, жить вечно. Я снова увидел лицо мамы и впервые почувствовал, как больно камни пути, который она прошла, должны были ранить ее ноги. Я увидел освещенную луной дорогу, где умер брат моего отца (убитый пьяными белыми)... Я снова увидел свою дочурку, и снова ощутил на своей груди слезы Изабел, и, почувствовал, что у меня самого на глазах вот-вот выступят слезы. И в то же время я знал, что это совсем ненадолго, что мир ждет нас снаружи, голодный, как тигр, и беда простерлась над нами и нет ей конца и края. Потом все кончилось. Креол и Сонни облегченно вздохнули, насквозь промокшие, улыбающиеся до ушей... Они весело болтали там наверху, в синем свете, и через некоторое время я увидел, как девушка ставит на рояль (заказанный старшим братом) виски с молоком для Сонни. Он, казалось, этого не заметил, но перед тем, как они снова начали играть, Сонни отпил из стакана и посмотрел туда, где я сидел, и кивнул. Потом он поставил его назад, на крышку рояля. И для меня, когда они заиграли снова, стакан этот светился и вспыхивал над головой моего брата как явленная чаша гнева." (Блюз для Сонни / Выйди из пустыни, М., 1974. перевод Р.Рыбкина) Как видим, для Джеймса Болдуина (а он хорошо знал, о чем писал) "творческое задание" джаза в эпоху би-бопа выглядело достаточно грозным и устрашающим (Откр. 14:9).