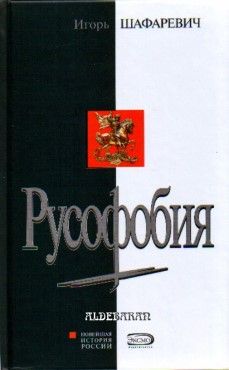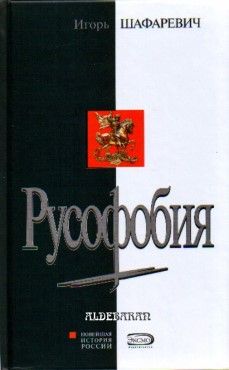Игорь Шафаревич - Русофобия - десять лет спустя
Но когда «народ» воспринимался не как все население, а как определенная нация, то это были русские, национальная персонификация, архетип абстрактного «народа». У Троцкого: их основная черта — «стадность», ленинская характеристика: народ «великий только своими насилиями, великий так, как велик держиморда», и так вплоть до сталинской формулы истории России, которая заключалась, «между прочим, в том, что его все время били…». В этом отношении А. Н. Яковлев выражал фундаментальную партийную традицию в своей статье «Против антиисторизма» (1972) — сигнала к разгрому группы литераторов, заподозренных в русском патриотизме. Логично встречаем в ней и тезис, что «справного мужика» так и надо было «порушить». И совершенно в том же духе в статье «Синдром врага» (1990) он набрасывает свою схему русской истории («Возьмем хоть Россию»): «С кем только ни воевала». «Все это формирует сознание, остается в генофонде». «Психологически — наследие отягчающее». Как же жить народу с отягченным генофондом: ведь гены не перевоспитываются? (Одно утешение, что из школы знаем: приобретенные признаки на генофонд не влияют!) Так сливается идеология «Малого народа» и правящего партийного слоя.
Единство идеологии — причина преданной любви современного «Малого народа» к революционному прошлому и его героям:
«бурному, почти гениальному Троцкому»
или Бухарину —
«человеку, отвергающему зло»
(как его назвала одна газета). Особенно же к 20-м годам — эпохе, когда готовился прыжок на деревню, воспитывался слой людей, для которых весь деревенский уклад жизни был отвратителен, подлежал уничтожению. Витает надежда, что недоделанное тогда удастся завершить сейчас:
«На дворе двадцатые годы. Не сначала, так с конца».
Нам предлагают считать деятелей той эпохи романтиками — быть может, заблуждавшимися — в отличие от чудовища Сталина. Действительно, те люди испытывали некий подъем, прилив энергии: это можно назвать романтизмом, можно — одержимостью. Но ведь такой же подъем давала и романтика «нордической расы»! Казалось бы, следует применять одну мерку к тем, кого судили в Нюрнберге, и к тем, кто уничтожал казаков. Или истребление мужиков — это только ошибка романтиков? Интересно вспомнить, как всего года 3 назад левая пресса встала стеной на защиту этих дорогих воспоминаний.
«Ни шагу назад от 37-го года!» —
было тогда лозунгом дня.
«Для чего надо уравнять преступность и безнравственность Сталина с безвыходностью (?) революционеров? — Чтобы посеять в душах сомнение в правильности социалистического выбора».
Это писалось не в правоверной партийной газете, а в самом популярном левом издании. Когда В. В. Кожинов высказал мысль, что сталинизм — результат всемирного процесса, эта же пресса обвинила его в том, что он хочет этим реабилитировать Сталина. А когда я поддержал и развил его мысль, то моя заметка была уравновешена статьей Р. Медведева, где он разоблачал страшную тайну, что я хочу бросить тень на лозунг «больше социализма!» (который все они тогда твердили). Моя старая работа
«Арьегардные бои марксизма»
была перепечатана здесь, когда все левые идеологи еще мужественно вели эти бои. Подобных примеров много. Именно мы, «консерваторы», постепенно заставили левое течение отказаться от той фразеологии
«заветов Ленина»,
«социалистических идеалов»
и даже, частично, марксизма, которую многие из них сейчас уже патетически клеймят.
Да связь «Малого народа» с партийным правящим слоем видна и на персональном уровне. Кто сегодня их вожди: политические лидеры, идеологи? Это вчерашние деятели партийного аппарата (вплоть до очень высоких), экономисты-специалисты по анализу развитого социализма, идеологи, философы, даже следователи, генералы КГБ, министры МВД! Почти все из них 1–2 года назад были членами КПСС: «коммутанты», по выражению Б. Олейника. Среди них нет почти никого, кто вчера противостоял бы этому правящему слою. Из тех, кто боролся против переброски рек, отравления Байкала, — никто не оказался среди левых лидеров. Даже участники диссидентского правозащитного движения, несмотря на близость многих взглядов, очень плохо принимаются этим слоем. Сахаров был редким исключением, им надо было бы беречь его, как зеницу ока, не вовлекать в сиюминутные свои конфликты.
Переход от ортодоксальной коммунистической к левой фразеологии происходит часто почти мгновенно, что было бы невозможно, если бы здесь не было идеологического единства. Так, В. Гроссман писал:
«Партия, ее ЦеКа, комиссары дивизий и полков, политруки рот и взводов, рядовые коммунисты в этих боях организовали боевую и моральную силу Красной Армии».
В войне, по его мнению,
«побеждали рабочие и крестьяне, ставшие управителями России». Он даже подписал письмо Сталину, требующее самой суровой кары «врачам-убийцам».
(См. Семен Липкин. «Время и судьбы». М., 1990).Единство так сильно, что одна сторона болезненно чувствует, когда задевают другую. Так недавняя комсомольская, а ныне независимая ленинградская газета «Смена», посвятив целую страницу критике моих взглядов, самыми жирными буквами выделила слова, связанные с утверждением (в моем интервью, напечатанном ранее той же газетой), что дело не в личном противостоянии Ельцина и Горбачева, а просто — что не будет у нас эффективного руководства, пока оно в руках представителей прежней партийной верхушки. Единство сказывается и в том, с какой легкостью «левые» апеллируют к аппарату власти: суду, КГБ — хотя теоретически они его сурово осудили. Парадоксальный пример — Г. Померанц так опровергает мое мнение, что идеология «Памяти» и прибалтийских «фронтов» совпадает:
«Правда, официально известно, что одного из лидеров „Памяти“, Васильева, пришлось предупредить насчет ответственности на случай погрома».
Но кому это «пришлось»? — КГБ. Ему же, только называвшемуся МГБ, насколько я знаю, «пришлось» в свое время не только «предупредить», но и отправить в лагерь Померанца. Неужели даже это не мешает рассматривать такое «предупреждение», как весомый аргумент?
Особенность современного «Малого народа» в том, что он уже не в первый раз в нашей истории оказывается одной из решающих сил. Видимо, в связи с этим для него такую болезненную роль играет проблема исторической ответственности, вины. Как странно! Из этого слоя мы часто слышим, что поиски «виноватого», «синдром врага» — это признаки ущербного сознания. Нам разъясняют, что выбитые из жизни, дестабилизированные люди и целые слои народа склонны искать где угодно «козла отпущения». Но удивительным образом тут же мы слышим, что носителем сталинизма являются низы народа («сталинизм, так сказать, массовый, низовой»), социальной базой Сталина было патриархальное крестьянство, сейчас питомник тоталитарной идеологии разоренное крестьянство («новые гунны»), в революции виноват народ, русские. Но ведь все эти группы тоже «кто-то» — и почему же их дозволительно делать «козлами отпущения»? Почему это не признак ущербного сознания? Недавно появилась парадоксальная статья сотрудника КГБ, где автор, жалуясь, что его ведомство стало «мальчиком для битья», призывает не искать виноватых, а признать, что виновна «вся нация». Здесь отсутствие логики явно бросается в глаза, равно как и цель — прекратить разговоры на неприятную тему. Но и в остальных же случаях дело обстоит не иначе.
А ведь проблема «исторической ответственности» очень глубока и важна и как жаль, что она превратилась в футбольный мяч, который перебрасывается от одного к другому! Все сводится лишь к тому, чтобы назвать «виноватого» патриархальное крестьянство, масонов, национальные черты русских или евреев. Но сначала ведь надо было бы обсудить саму постановку вопроса. Говоря о вине народа, мы пользуемся аналогией народ — человек, так как обычно лишь к человеку применяется понятие вины. Такие аналогии часто продуктивны для постановки вопросов, но опасны как метод для поиска ответов. Все ведь зависит от того, как далеко простирается аналогия! Можно действительно привести много аргументов в пользу того, что народ — это нечто живое. Даже одухотворенное, так как способно к творчеству — например, фольклора. Но в то же время это «организм», которому в гораздо большей степени присуще бессознательное творчество, чем логическая выработка решений для достижения сформулированной цели. Только рассмотрение множества исторических ситуаций могло бы уточнить, в какой мере такому «организму» свойственно понятие «вины». В нашей революции очень отчетливо выделяется одна фаза, условно — «февральская», когда усилиями тогдашнего «Малого народа» разрушаются «интегрирующие механизмы», позволяющие народу ощущать себя и действовать как единое целое. Подвергается осмеянию и делается предметом ненависти национальная история, вера, историческая власть, армия. Создается множество мифов, внушаемых народу (о колоссальных помещичьих землях, которые могут утолить земельный голод крестьян, об измене двора, всевластии Распутина и т. д.). Народ как бы парализуется, становится беззащитной жертвой небольших агрессивных групп. Такой процесс больше похож на болезнь, чем на преступление — понятие вины к нему применять трудно. С другой стороны, русская революция была звеном в грандиозном всемирно-историческом процессе, длившемся не одно столетие. В те же годы, что Советская Россия, возникла Советская Венгрия и Советская республика в Баварии, коммунистические партии возникали во всех странах. Западное общественное мнение в большинстве своем приветствовало «блестящий эксперимент». Существенную роль играли устойчивая неприязнь Запада к исторической России, деньги германского генерального штаба, мощный приток сил радикального еврейства в революцию. Все эти внешние факторы надо откинуть, рассматривая проблему «русской вины». Остается ли хоть что-то после этого? Чувство говорит мне — то да! Что история не является процессом «по ту сторону добра и зла», где бессмысленно задавать вопрос о вине, как бессмысленно (по любимому сравнению Л. Н. Гумилева) спрашивать — кто прав: щелочь или кислота в химической реакции. Есть проблема выбора, в решении которой возможна нравственная ошибка, влияющая на всю следующую историю то, что Достоевский называл «ошибками сердца». Выделить этот фактор (или убедиться, что его не существует) — было бы очень важно для осознания нашей судьбы.