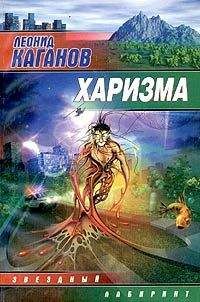Дмитрий Мережковский - Было и будет. Дневник 1910 - 1914
Теперь, после смерти его, слово это как будто из вечности сказано не только ей от него, но и всей России прошлой от всей России будущей.
А вот и другое слово, тоже из вечности, — тому, кто первый отлучил его от Христа, Достоевскому:
«Насчет того, верю ли я в человека-Бога или в Бога-человека, я ничего не умею вам сказать, и если бы и умел, не сказал. Об этом скажут сожженные на кострах и сжигавшие. „Не мы ли призывали тебя, называли Господом?“ — „Не знаю вас, идите прочь, творящие беззаконие!“»
И, наконец, последнее слово, все решающее:
«Ваше исповедание веры есть исповедание веры нашей церкви… Я не только не отрицаю этого учения, но если бы мне сказали: что я хочу, чтобы дети мои были неверующими, каким я был, или верили тому, чему учит церковь, — я бы, не задумываясь, выбрал веру по церкви. Я знаю, весь народ верит не только тому, чему учит церковь, но примешивает еще бездну суеверий, и я себя (убежденный, что верю истинно) не разделяю от бабы, верящей пятнице, и утверждаю, что мы с этой бабой совершенно равно (ни больше, ни меньше) знаем истину… Бабу, верующую в пятницу, я понимаю и признаю в ней истинную веру, потому что знаю, что несообразность понятия пятницы как Бога для нее не существует, и она смотрит во все свои глаза и больше видеть не может. Она смотрит туда, куда надо, ищет Бога, и Бог найдет ее. И между нею и мною нет перед Богом никакой разницы, потому что мое понятие о Боге, которое кажется мне таким высоким, в сравнении с истинным Богом так же мелко и уродливо, как и понятие бабы о пятнице… И как я чувствую себя в полном согласии с искренно верующими из народа, так точно я чувствую себя в согласии с верою по церкви. Сказать свою веру нельзя… Как только сказал, то вышло кощунство…»
Потому и вышло кощунство, что сказали, но не сделали. Догмат — не слово, а дело; если же только слово, то уж не догмат, а кощунство и ложь. Бывают времена, когда единственно возможное утверждение истины есть отрицание лжи. Вся Россия будущая — в этом отрицании. Вот почему ее ледяное нет есть огненное да. Легко сказать с творящими беззаконие: «Господи! Господи!» — но сказать не с ними трудно, почти невозможно сейчас. <…>
Исповедания догмата о Богочеловечестве нет в словах Толстого, но оно есть в делах его, в жизни и смерти — особенно в смерти.
«Я думаю больше всего о смерти, и все с бóльшим удовольствием… Это вот какое чувство: бывало, в первой молодости, думаешь: я верхом ездить, плавать, воевать не хуже другого, а, может быть, и лучше другого могу. Теперь я начинаю чувствовать, что не только плавать и гимнастику делать, но и самую трудную штуку в жизни — нырнуть туда — сумею не хуже другого, может быть, и лучше… И это доставляет мне особого рода строгое и тихое наслаждение. Я на все в мире смотрю с этой точки зрения. И так все на свете затихло, все такие спокойные, добрые и смирные… Вчера я был на охоте и, измученный восьмичасовой ходьбой по болоту, пришел на квартиру к дьякону. Хозяин, 70-летний старик, рассказывал мне, как убрались с поля, как овса много, как медиста пчела; а сам старый, слабый, с пучком вылезшим седым на затылке и с старческим горбом под нанковой рясой.
— Вам сколько лет?
— Да 72-й.
— Что ж, еще годков 15 проживете?
— Да, батюшка до 90 годов жил.
— А умирать не хочется?
— Грехов много, да и от суеты мирской не скоро отлепишься.
Мы помолчали. И какая суета держит его? — думал я. На крылечке — мы сидели перед крыльцом — стояла на лавочке девочка двух лет. Дьякон подошел к ней. Весь сморщился от нежной улыбки и стал ей шептать что-то.
— Поцелуй дедуську.
Вот эта-то настоящая суета мирская, и от нее надо отлепиться. И отлепиться так, чтобы не насильно разорвать эти связи, а живой бабочкой вылететь из своей куколки».
Да, все затихло: тихость закатных лучей, золото древних икон, которым светятся лики святых. <…>
Не говоря: «Господи! Господи!», он исполнил волю Господню. Нырнул туда не хуже, а лучше других; вылетел из куколки живою бабочкой. Не слово, а дело, жизнь и смерть его — явление святости.
Для будущей России — свят, для прошлой — «анафема». Это и значит: две России <…>.
ГЁТЕ
Он вошел в приемную, холодную, светлую комнату, с холодною парадною мебелью, с холодными белыми гипсами — снимками с древних мраморов. И от него самого веяло холодом: великий человек и господин тайный советник маленького немецкого дворика, напыщенного и напудренного во вкусе Людовика XV.
— Ваше превосходительство высказываете великие мысли, и я счастлив, что слышу их, — говорит ему собеседник, доктор Эккерман, изгибаясь почтительно, не то как лакей своего барина, не то как жрец своего бога.
Бог — в длиннополом сером сюртуке и белом галстуке, с красной орденской ленточкой в петлице, в шелковых чулках и башмаках с пряжками, старик лет 80-ти. Высок и строен; так величав, что похож на собственный памятник. Редкие седые волосы над оголенным черепом; смуглое, свежее лицо все в глубоких складках-морщинах, и каждая складка полна мысли и мужества. Углы старчески тонкого, сжатого и слегка ввалившегося рта опущены не то с олимпийской усмешкою, не то с брезгливою горечью. Стар? Да, очень стар. Но вот эти глаза, черные, ясные, зоркие, — глаза человека, который видит «на аршин под землею». «Орлиные очи». Невероятно, до странности, до жуткости молодые — в старом-старом, древнем лице глаза 18-летнего юноши. «Я ощущал перед ними страх», — признается Теккерей,[10] посетивший его в Веймаре в 1831 г. Они напомнили ему глаза Мельмота-Путешественника, которым когда-то пугали детей; Мельмот, подобно Фаусту,[11] заключил договор с «некоторым лицом», и до глубокой старости глаза его сохраняли властительный блеск. В самом деле, в этих нестареющих глазах — что-то «демоническое», как любил выражаться их обладатель: демоническое для язычников значит «божеское» (от древнегреческого слова daimon — бог), а для христиан — «бесовское», но во всяком случае сверхчеловеческое.
Да, сверхчеловеческое — в этой вечной юности. «Ему скоро будет восемьдесят, — записывает Эккерман в 1825 г., — но ни в чем он не чувствует себя готовым и законченным; он стремится все вперед и вперед; он кажется человеком вечной, неразрушимой юности».
Однажды весенним утром в саду забавлялся стрельбой из лука. «Я подал ему лук. Он приладил стрелу, прицелился вверх и спустил тетиву. Он был точно Аполлон, состарившийся телом, но одушевленный бессмертной юностью. Не умею сказать, до чего мне было весело, глядя на него. Мне вспомнились стихи:
Или старость меня покидает?
Или детство вернулось опять?»
На 72-м году от роду, летом, на Мариенбадских водах влюбился в 19-летнюю девушку и страдал, вздыхал, бегал за нею, как мальчик. Красавица не пожелала быть Гретхен, и, расставшись с нею, он заболел от горя. Тогда написал свою безумно-страстную «Мариенбадскую элегию». Переписал ее тщательно латинским шрифтом на веленевой бумаге и прикрепил шелковым шнурком к красному сафьянному переплету с истинно немецкой аккуратностью. Нам смешно, но ему не до смеха.
«Ах, я научился страдать и терпеть! — вздыхает он не хуже юного Вертера, сидя ноябрьскою ночью в своей крошечной веймарской спаленке, больной, в белом фланелевом шлафроке, с ногами, закутанными в шерстяное одеяло. — Я не лягу в постель, просижу всю ночь в кресле: все равно настоящего сна не будет».
Но вот разговор с Гумбольдтом[12] или другим ученым о спиральном росте растений, о законах атмосферического давления, о новооткрытых веществах — йоде и хлоре; велит принести йоду и превращает его в пары на пламени свечки; при этом, восхищаясь фиолетовым цветом паров, видит в нем «приятное подтверждение одного из законов своего учения о цветах»; смотрит на волшебное пламя такими же влюбленными глазами, как в ее глаза: и там, и здесь — одна душа — Душа Мира; там изменила, здесь не изменит, — и вот уже опять здоров, опять юн.
Знает, что в семьдесят лет влюбляться глупо. «Но надо часто делать глупости, чтобы только продлить жизнь». Думает, что люди живут, пока смеют жить; живут и умирают по собственной воле. У него самого воля к жизни, смелость жизни бесконечная.
Как будто выпил, подобно Фаусту, эликсира вечной юности. Не умственное, не нравственное убеждение, а физическое чувство бессмертия.
И другим, глядя на него, а может быть, и ему самому приходит в голову странная мысль: умрет ли он когда-нибудь? Ну как такому умирать?
Когда же все-таки умер, Эккерман вошел в комнату его: «Обнаженное тело было обернуто белой простыней. Фридрих (старый слуга) отвернул простыню, и я подивился божественному великолепию этих членов. Грудь необычайно сильная, широкая и выпуклая; руки и ноги полные и нежные; следки ног изящны и правильны. Передо мною лежал совершенный человек в совершенной красоте, и восторг, который я почувствовал, заставил меня позабыть на миг, что бессмертный дух уже оставил эту оболочку».