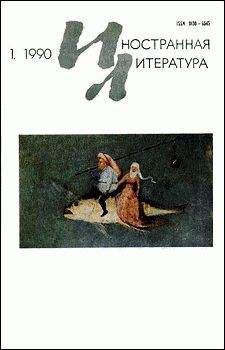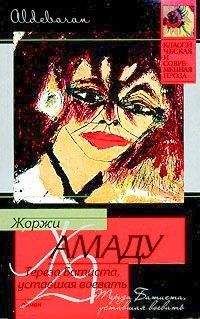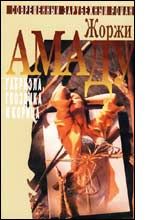Виталий Шенталинский - Рабы свободы: Документальные повести
Следователь требует конкретности, и Бабель начинает развенчивать свое творчество:
— «Конармия» явилась для меня лишь поводом для выражения волновавших меня жутких настроений, ничего общего с происходящим в Советском Союзе не имеющих. Отсюда подчеркнутое описание всей жестокости и несообразности гражданской войны, искусственное введение эротического элемента, изображение только крикливых и резких эпизодов и полное забвение роли партии в деле сколачивания из казачества, тогда еще недостаточно проникнутого пролетарским сознанием, регулярной, внушительной единицы Красной Армии, какой являлась в действительности Первая Конная.
Что касается моих «Одесских рассказов», то они, безусловно, явились отзвуком того же желания отойти от советской действительности, противопоставить трудовым строительным будням полумифический, красочный мир одесских бандитов, романтическое изображение которых невольно звало советскую молодежь к подражанию…
После себя Бабель, по требованию следователя, дает характеристику Воронскому и участникам его кружка, рисуя их творческие трудности как горькие плоды троцкизма:
— Основная мысль Воронского состояла в том, что писатель должен творить свободно, по интуиции, возможно ярче отражая в книгах ни в чем не ограниченную свою индивидуальность…
И это главное условие творчества предстает теперь для следствия как смертный грех, причина писательских бед.
— Последовала серия неудачных и бесцветных вещей Всеволода Иванова, в том числе рассказ «Бригадир Синицына». Одну книгу, над которой он долго работал, Иванов в припадке отчаяния сжег. Об упаднических настроениях Иванова мне передавал в последние годы Катаев, говоря, что тот по-прежнему мечется в поисках литературного и политического равновесия и чувствует неудовлетворенность своей судьбой… В неоднократных беседах со мной Сейфуллина жаловалась на то, что из-за неустойчивости, растерянности ее мировоззрения писать становится все труднее. Внутренний разлад с современной действительностью сказался в том, что Сейфуллина в последние годы пьет запоем и совершенно выключена из литературной жизни и работы…
Подробно анализирует Бабель эту духовную метаморфозу, происшедшую с ним и с его товарищами, в собственноручных показаниях:
При разности темпераментов и манер нас объединяла приверженность к нашему литературному «вождю» Воронскому и его идеям, троцкистским идеям. Приверженность эта дорого обошлась всем нам, скрыла от нас на долгие годы истинное лицо Советской страны, привела к невыносимому душевному холоду и пустоте, стянула петлю на шее Есенина, бросила других — в распутство, в нигилизм, в жречество…
С уходом Воронского мы стали опорными пунктами его влияния на литературную молодежь, центром притяжения для недовольных политикой партии в области искусства. Вокруг Сейфуллиной и Правдухина[12] сгруппировались сибирские писатели («крестьянствующие»), к Пильняку потянулись авантюристы и неясные люди, моя репутация некоторой литературной «независимости» и «борьбы за качество» привлекла ко мне формалистически настроенные элементы. Что внушал я им? Пренебрежение к организационным формам объединения писателей (Союз советских писателей и др.), мысль об упадке советской литературы, критическое отношение к таким мероприятиям партии, как борьба с формализмом, как одобрение вещей полезных, но художественно неполноценных…
О чем говорилось за стаканом чаю? Перепевались покаянные рассказы о старой, ушедшей Руси, в которой наряду с плохим было так много прекрасного, с умилением вспоминали монастырские луковки, идиллию уездных городов; царская тюрьма — и та изображалась в легких, иногда трогательных тонах, а тюремщики и жандармы выглядели по этим рассказам чуть вывихнутыми, неплохими людьми. «Недооценка» так называемых «хороших людей» — Пятаковых, Лашевичей, Серебряковых[13] — вменялась революции в смертный грех…
Здесь надо сказать несколько слов о себе. Признать, что всем дурным в себе я обязан Воронскому, было бы ложью и самоумалением. Влияние его на меня было ограниченным: критиком я считал его посредственным, политиком — импрессионистическим, но это внушенное им деление революционеров на «плохих людей и хороших» въелось в плоть мою и в кровь, стало причиной всех моих бед — литературных и личных. Одна из основных заповедей Воронского была заповедь о том, что мы должны оставаться верными себе, своему стилю и тематике; считалось, что все может изменяться вокруг нас, писатель же растет только в себе, обогащается духовно, и что этот процесс — внутренний — может идти независимо от внешних влияний. С этим-то багажом я хотел работать дальше; отсюда — крушение всех моих попыток осилить настоящую советскую тему.
Я хотел описать рассказанное мне Евдокимовым[14] Звенигородское дело (поимку на Украине бандитов Завгороднего и других) — из этой попытки ничего не вышло, потому что бандиты и советские люди поставлены были мною только в человеческие, но не политические отношения.
Я хотел написать книгу о коллективизации, но весь этот грандиозный процесс оказался растерзанным в моем сознании на мелкие несвязанные куски.
Я хотел написать о Кабарде и остановился на полдороге, потому что не сумел отделить жизнь маленькой советской республики от феодальных методов руководства Калмыкова[15].
Я хотел написать о новой советской семье (взяв за основу историю Коробовых[16]), но и тут меня держали в плену личные мелочи, мертвая объективность…
Десять тяжких лет были истрачены на все эти попытки, и только в последнее время наступило для меня облегчение — я понял, что моя тема, нужная для многих, это тема саморазоблачения, художественный и беспощадный, правдивый рассказ о жизни в революции одного «хорошего» человека. И эта тема — впервые — давалась мне легко. Я не закончил ее, форма ее изменилась и стала формой протоколов судебного следствия…
Здесь Бабель создает образ заблудившегося и кающегося писателя. Но за завесой жанра показаний и приличествующей ему фразеологии приоткрывает нам суть своего творческого кризиса, который он назвал «правом на молчание». Перечисление его неудач говорит об одном: примеряемый им так и сяк мундир советского писателя ему не подходит, скроенный по меркам соцреализма — трещит по всем швам. Он-то хотел и мог писать жизнь — как истинный художник — во всех ее противоречиях, полнокровно, многокрасочно, изображать людей, а не классовых противников, выкрашенных в красный или белый цвет.
Теперь понял: так, «как надо», «как все», у него не получится. Увидел он и своего истинного «героя» — это так называемый «хороший человек», делавший революцию — и ставший ее жертвой, разрушавший мир ради высших идеалов — и погребенный под его обломками, как мусор истории. Таковы были его друзья. Таков оказался и он сам. Именно поэтому формой его самовыражения стали в конце концов судебные протоколы… черновики никем не написанной трагедии революции.
Я в 1927 и в 1932 годах ездил в Париж, восторженно был встречен кадетской и меньшевистской частью эмиграции, с упоением слушавшей рассказы мои об СССР, — в то время как я наивно полагал, что рассказываю лучшее и положительное. Спрашивая себя теперь, в чем заключается причина той свободы и непринужденности, с какой я чувствовал себя в этой среде, — я вижу, что между ней и духом, господствовавшим в кружке Воронского, не было, по существу, никакой разницы. Духовная эмиграция была и до поездок за границу, продолжалась она и после возвращения. Характер разговоров и отношения оставался все тем же.
Я был знаком со многими литераторами, киноработниками, интеллигентами. Авторитет мой среди них был достаточно высок, ценилось мое чувство стиля, дар рассказа. У этой репутации я всю жизнь был рабом и господином. Обывательские толки о политике, литературные сплетни, охаивание советского искусства — все было смешано в этих разговорах. Внешне это была остроумная болтовня так называемых «интересных людей», никого ни к чему не обязывавшая, прерывавшаяся иногда выражением скорби о разных недостатках, — по существу же эти разговоры были отзвуком серьезных мыслей и настроений.
Одна тема в этих разговорах была неизменной: в течение нескольких лет я нападал на идею организации писателей в Союз, утверждая, что в этом деле нужна крайняя децентрализация, что пути руководства писателями должны быть неизмеримо более гибкими и менее заметными; упражнялся в остроумии, предлагал ввести «гнилой либерализм» в делах литературы, в шутку предлагал выслать из Москвы семьдесят процентов проживающих в ней писателей и расселить их по Союзу, поближе к тому, что надо описывать. Я подвергал резкой критике почти все мероприятия Союза, восставал против постройки писательских домов и поселков, считая это начинание антипрофессиональным, отбивался от союзных нагрузок и общественной работы в Союзе, высмеивал ее, но должен сказать, что никогда не скрывал своих мыслей на этот счет, как не скрывал их и по другим, более серьезным поводам.