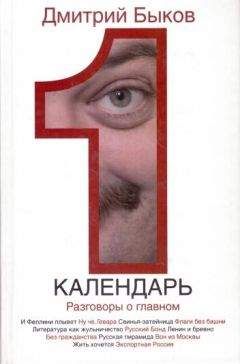Дмитрий Быков - Календарь-2. Споры о бесспорном
Возможно, дело в размерах страны, а может быть, в ее роли — если рассматривать землю как нечто антропоморфное, нам отведена роль спины, неизменной, неподвижной, с позвоночником Уральского хребта посередине; спина должна быть стабильна — и потому к России, при всех ее бурях, поныне так приложимо все, что говорилось о ней пятьсот, триста и сто лет назад. Чтобы страна оставалась в этом гомеостазисе, в ней не должно быть людей с убеждениями, с твердыми взглядами — ибо такие взгляды предполагают действие, разрыв с невыносимым положением, а этого-то нам и нельзя в силу нашей всемирно-исторической роли. Могут быть и другие, менее метафизические и более прикладные объяснения — но факт остается фактом: Россия никогда не была в строгом смысле тоталитарна, ибо любая тотальность здесь разрушается «сдвигом», наличием дистанции между людьми и идеями. У нас никто себе не равен. Почвенники ведут себя как классические западники, защитники низов стремительно перенимают манеры верхов, церковные иерархи на поверку оказываются мздоимцами и развратниками — такое случается везде, но у нас странным образом не вызывает осуждения: это скорее норма. Навязанная русским в качестве истории кровавая пьеса так ужасна, что если бы роли игрались всерьез, с полным «переживанием», — злодейство стало бы повсеместным, всеобщим, непобедимым. Между тем классическая русская фигура — человечный конвойный, раскаявшийся угнетатель, внезапно подмигивающий грабитель; только благодаря «зазору» и существует в стране все, что является целью и условием существования прочих государств. В России все это незаконно, без разрешения. Одним из первых этот русский закон сформулировал Полетика, а записал Вяземский, хотя приписывается эта фраза и Карамзину: строгость и бесчеловечность законов компенсированы небрежностью исполнения. Ровно на эту тему — несоответствие человека и его социальной роли — говорил я десять лет назад с ныне покойным другом Высоцкого Иваном Дыховичным[1]: он считал этот закон фундаментальным для русского искусства. Но прямым его следствием становится и главное условие русской популярности: чтобы текст — или фильм, или любое художественное высказывание — был здесь по-настоящему всенародно любим, в этом тексте должна наличествовать ироническая либо стилизаторская дистанция, двойное зрение или, как ни мрачно это звучит, двойная мораль. Это может выглядеть цинизмом (а настоящее искусство часто упрекают именно в цинизме), а может — объемностью, амбивалентностью авторского зрения; главный русский эпический автор — Лев Толстой — потому и остается непревзойденным, что утверждает на письме то самое, что опровергает в теории. В любой песне Высоцкого — и особенно ярко это заявлено в его дебютных сочинениях, в блатном цикле, который одинаково любим интеллигенцией и собственно блатотой, — ощущается то минимальный, а то и весьма значительный разрыв между исполнителем и героем: исполнитель выражается слишком витиевато и грамотно для блатного, не говоря уж о том, что шлейф используемых им литературных ассоциаций подозрительно длинен, а количество скрытых цитат дает работу уже пяти поколениям филологов. От аутентичных блатных песен герой Высоцкого отличается прежде всего самоиронией — у реальных блатных с этим сложно, им подавай надрыв и красоту, — а слияние голосов героя и повествователя тут большая редкость, в отличие, скажем, от случая Зощенко. Высоцкий — весьма аккуратный стилизатор, избегающий вживаться в роль: это заметно уже в «Татуировке», в «Бодайбо», в «Я был душой дурного общества» — написанных слишком хорошо для полного сходства с дворовым фольклором. Иную песню Окуджавы можно принять за окопную или народную, но песни Высоцкого — безошибочно авторские, и даже знаменитейший из его монологов «Банька по-белому» никак не тянет на народное творчество (хотя и по манерам, и по образу жизни Высоцкий куда ближе Окуджавы к тому самому народу — просто у Окуджавы зазор между героем и автором иногда исчезает, как в песне «Ах, война, она не год еще протянет» или в романсе кавалергарда. Удивительно, что Окуджава выстроил свой миф гораздо убедительней — для большинства слушателей оказалось шоком, что он почти не воевал; образ окопного ветерана, старого солдата сросся с его обликом, а о подлинной своей войне он рассказал только Юрию Росту, во второй половине восьмидесятых. Заметим, что большинство авторских мифологем Окуджавы — арбатское проживание, окопный опыт, кавказский характер — отлично прижились, даром что с реальностью соотносились весьма приблизительно, тогда как поверить в лагерный либо дальнобойщицкий опыт Высоцкого мог только завсегдатай шалмана, где такие истории обычно и рассказывались). «Банька», если уж на то пошло, стилизована скорей под Некрасова, под «Меж высоких хлебов» — и то построена гораздо изощренней, почему в строгом смысле и не ушла в фольклор: фольклорно то, что легко примеривается на себя, а у Высоцкого герой всегда обрисован гротескно, ярко, без особенного лиризма. Его монологи приятно произносить вслух — «Беня говорит смачно», — но в них невозможно поместиться с личным опытом: тесно от слов и реалий, ножа не всунешь. И уж конечно, лагерник — если только он не интеллигент, загремевший по 58-й, — не споет о себе «И хлещу я березовым веничком по наследию мрачных времен».
Проблема, однако, в том, что упомянутый зазор весьма велик не только в стилизаторских, иронических, блатных песнях Высоцкого, а и в тех его лирических монологах, которые он произносил как будто от первого лица. Высоцкий вынужденно переносил стратегию ролевого поведения и на ту сферу, в которой раздвоение (в его случае — и растроение) личности катастрофически противопоказано. Что сделаешь, это особенность дарования, роднящая Высоцкого с его народом, обеспечившая любовь этого самого народа, но и послужившая источником вечного внутреннего разлада. То, что это осознавалось как трагедия, подтверждается гипертрофированным, болезненным вниманием Высоцкого к теме двойничества — и тут вспоминаются не только иронические сочинения вроде «И вкусы, и запросы мои странны», но и вполне серьезные тексты вроде «Мой черный человек в костюме сером». То, что «черный человек» в русской традиции — двойник, в доказательствах не нуждается (хотя весьма интересно было бы с этой точки зрения осмыслить моцартовского Черного человека — ведь тот, кто заказывает реквием, может быть и пророческой, всезнающей ипостасью души самого художника, хотя в реальности Реквием был заказан графом Вальзегом, обычным графоманом, скупавшим чужие сочинения и выдававшим за свои). После Есенина — а к нему Высоцкий типологически, психологически и даже физиологически ближе, чем Окуджава к Блоку, — «черный человек» однозначно выступает как персонализированная темная сторона авторской личности; символично, что своего «черного человека» Высоцкий написал за год до смерти, как и Есенин — своего. Напомним этот текст — не самый популярный, ибо это стихи, а не песня:
Мой черный человек в костюме сером!
Он был министром, домуправом, офицером,
Как злобный клоун он менял личины
И бил под дых, внезапно, без причины.
И, улыбаясь, мне ломали крылья,
Мой хрип порой похожим был на вой,
И я немел от боли и бессилья
И лишь шептал: «Спасибо, что живой».
Я суеверен был, искал приметы,
Что, мол, пройдет, терпи, все ерунда…
Я даже прорывался в кабинеты
И зарекался: «Больше — никогда!»
Вокруг меня кликуши голосили:
«В Париж мотает, словно мы — в Тюмень;
Пора такого выгнать из России!
Давно пора, — видать, начальству лень».
Судачили про дачу и зарплату:
Мол, денег прорва, по ночам кую…
Я все отдам — берите без доплаты
Трехкомнатную камеру мою.
И мне давали добрые советы,
Чуть свысока похлопав по плечу,
Мои друзья — известные поэты:
Не стоит рифмовать «кричу — торчу».
И лопнула во мне терпенья жила —
И я со смертью перешел на «ты»,
Она давно возле меня кружила,
Побаивалась только хрипоты.
Я от Суда скрываться не намерен:
Коль призовут — отвечу на вопрос.
Я до секунд всю жизнь свою измерил
И худо-бедно, но тащил свой воз.
Но знаю я, что лживо, а что свято, —
Я это понял все-таки давно.
Мой путь один, всего один, ребята, —
Мне выбора, по счастью, не дано.
Это финальное заклинание призвано убедить, по всей видимости, не столько слушателя, сколько самого автора, — но, кажется, Высоцкий сам отлично понимал его декларативность. Проще всего было бы истолковать этот текст как проклятие всякого рода начальству, цензорам и стукачам, но «черный человек» — всегда зеркальное отражение автора или, во всяком случае, его темная сторона. Высоцкий осознавал свою советскость — и, может быть, прав замечательный прозаик Михаил Успенский, заметивший недавно: позднесоветская власть сделала две страшные ошибки, слишком долго считая Галича своим, а Высоцкого — чужим. Высоцкий в самом деле очень советское, в лучшем смысле, явление: ведь советский проект будет памятен не только и не столько бюрократией, репрессиями и запретами, но и установкой на сверхчеловеческое, на преодоление будней, на прорыв в непонятное и небывалое. В Высоцком все это есть, и вдохновлен он героической советской историей, и когда он говорит вместо «советский» — «совейский», это намекает прежде всего на «свойский». Советское для Высоцкого так же органично, как для России в целом, и так же лично им освоено, и так же в нем неискоренимо — эту двойственность своего пути и авторского облика он ощущал постоянно, и это, в общем, почти универсальная советская ситуация: мы мало сейчас думаем и пишем о семидесятых, они выше и сложнее нашего понимания, а между тем отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о том, как каждый крупный и значимый автор позднесоветских времен решал для себя проблему сосуществования с официозом. Для кого-то — как, скажем, для Евтушенко — такая проблема была не столько трагедией, сколько вызовом и даже источником вдохновения: он в молодости заявил о себе — не без кокетства, но и не без героизма, бросающего перчатку советскому культу монолитов: «Я разный, я всклокоченный, я праздный…» (Это дало повод А. Иванову, подчас весьма ядовитому, заметить: «Сей популярнейший герой, отнюдь не начинающий, настолько разный, что порой взаимоисключающий» — что ж, и это интересно, и поэт, вытащивший это состояние души на уровень творческого осмысления, заслуживает благодарности: до него так не писали.) Для многих — скажем, для Юнны Мориц — все советское с начала семидесятых табуировано, это даже не эскепизм, а прямой бунт — в форме, к счастью, столь эстетически продвинутой, что понимали только те, к кому автор прямо адресовался, а черным человекам в костюмах было не подкопаться, и они довольствовались гадостями по мелочам. Высоцкий был сложней, публичней, народней, разночинней, советскую историю осознавал как свою, снобского аристократизма чуждался — и потому собственная раздвоенность приводила его сначала к затяжным депрессиям, а затем, страшно сказать, и к творческому параличу. Проблема Высоцкого в том, что в лирике — и гражданской, и даже любовной — он становится подчас риторичен, многословен, куда только девается виртуозность обращения со словом, начинают звучать какие-то прямо советские обертоны, — в общем, если в сказке, притче, сатире, ролевом монологе он легко выдерживает соревнование со статусными поэтами-современниками и многих из них кладет на лопатки, то в собственно лирическом монологе почти всегда проигрывает самому себе. И тогда — с рефлексией у него все обстояло блестяще — приходится «со смертью перейти на „ты“», то есть привлечь к литературе внелитературные обстоятельства. Елена Иваницкая когда-то написала в замечательной статье «Первый ученик»: Высоцкий форсирует голос и начинает играть со смертью там, где ощущает недостаточность своих литературных возможностей — и недостаточность эта, добавим, обусловлена не масштабом таланта, а тем самым «сознанием своей правоты», которое Мандельштам называл непременным условием поэзии, источником ее существования. Когда Высоцкий смеется или фантазирует, у него это сознание есть, но стоит ему заговорить от первого лица — оно куда-то девается, задавленное двусмысленностью его собственного статуса, неопределенностью отношения к советской современности, непониманием будущего. (Вот почему, скажем, «Я не люблю» — такие плохие стихи, несмотря на отличные точечные попадания вроде «Я не люблю любое время года, в которое болею или пью». Характерна и вариативность двух ключевых строк: «И мне не жаль распятого Христа» — «Вот только жаль распятого Христа». Плохо не то, что эти строчки противоположны по смыслу. Плохо, что они взаимозаменяемы — и стихотворение не станет ни лучше, ни хуже от этой замены; это относится, увы, и к русскому христианству в целом — говорю не о высоких личных образцах, а о массовом его восприятии, о равной готовности счесть христианским актом проявление милосердия или зверства, красную революцию или белую контрреволюцию.) Высоцкий с его темпераментом никак не создан для безвременья — и трудно сомневаться, что после 1985 года ему стало бы не легче, ибо наружу вырвались не творческие и свободолюбивые силы, а усталость, упрощение, энергия распада. Если ему неуютно было в семидесятых — можно представить, каково стало бы в девяностых, в которых диктат тупости и фальши был ничуть не слабей, а противопоставить ему было уже нечего.