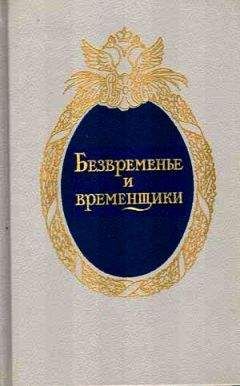Евгений Гнедин - Выход из лабиринта
В начале вечера я отправился на Центральный телеграф. В самых недрах этого правительственного учреждения, в зале, где, как мне помнится, на возвышении сидел человек в наушниках, видимо, контролируя какую-то радиопередачу или линию связи, я в уголке, за маленьким столиком, просматривал принесенные мне телеграфные бланки с сообщениями иностранных корреспондентов, которые теперь, в результате моей собственной инициативы, давали информацию помимо Отдела печати. Вдруг в это помещение, где соблюдалась полная тишина, запыхавшись, вошли три человека. «Ах, вы здесь», — бессмысленно воскликнул один из них. Он тут же снял телефонную трубку, позвонил Деканозову, доложил: «Гнедин здесь на телеграфе» и передал мне трубку. Деканозов выразил удивление, что я к нему не явился. Я сослался на то, что еще нет 10 часов и сказал, что немедленно приеду.
Я направился к выходу, сопровождаемый тремя субъектами. Пока я говорил по телефону, эти «подоспевшие сотрудники» нетерпеливо переминались с ноги на ногу, а теперь, с трудом прикрывая назойливость деланной любезностью, предложили мне поехать в их машине. Я ответил, что меня ждет моя машина.
Из подъезда я вышел одновременно с несколькими хорошенькими девушками — хористками или актрисами радиовещания. «Подвезите нас!» — кокетливо крикнула одна из них. «В другой раз», — обещал я за час до своего ареста. Девушки весело рассмеялись. Мне тоже стало весело.
Был настоящий майский вечер, вечер надежд и обещаний. На улицах было оживленно. Сидя в быстро мчавшейся машине, я глядел на Москву, и мне было хорошо. Я был готов к тому, что меня ждут какие-то важные и, возможно, неприятные впечатления, но жить было интересно, и я радовался этому. Мой органический оптимизм на этот раз обманывал меня, а вернее, спасал.
В здании НКИД в тот вечер было темно, тихо, но не вовсе пусто. Обычная жизнь замерла, но какие-то едва уловимые признаки свидетельствовали о том, что в доме неспокойно. Навстречу мне по лестнице спускался явно озабоченный заведующий Финансовым отделом НКИД, рядом с ним шел незнакомый человек. Трудно было догадаться, что я встретил арестованного работника НКИД, которого агент НКВД сопровождал в тюрьму. Я прошел к себе и спросил дежурного, где мой заместитель. «Он наверху», — необычно угрюмо ответила девушка. «Вероятно, внизу», — сказал я, имея в виду кабинет Деканозова, находившийся двумя этажами ниже. «Теперь уже все равно, внизу или наверху», — последовал загадочный ответ.
Незнакомый мне дежурный секретарь подтвердил, что заместитель наркома иностранных дел меня ждет. Я отворил знакомую дверь. На пороге передо мной встал неизвестный в штатском, направляя мне прямо в грудь револьвер: «Вы арестованы», — сказал он и быстрыми профессиональными движениями свободной руки похлопал меня по карманам моего пиджака и брюк. Впервые я испытал, что практически значит «потемнело в глазах». Я сделал несколько шагов вглубь комнаты. За большим столом Бориса Спиридоновича Стомонякова восседал Деканозов все с тем же глупо равнодушным и скучно угрожающим лицом. Неожиданно для самого себя я сказал, отстраняя агента: «Нельзя ли без такой лихорадочной нервозности». Деканозов потребовал от меня ключи от сейфа в моем кабинете (этот сейф, как правило, был пуст). Я стал бросать на стол нового замнаркома иностранных дел все, что было в карманах: бумажник, ключи, кошелек, листки с заметками, которые я делал при чтении телеграмм. Бумажки Деканозов поспешно схватил, коробку с папиросами вернул; кажется, я кинул ее обратно на стол.
Засим Деканозов дал мне чистый конверт и предложил написать на нем мой адрес. В этот конверт он вложил ключи от моей квартиры. Позднее жена мне рассказывала, как, увидев в руках агента, явившегося с обыском, конверт, надписанный моей рукой, она рванулась к нему, воскликнув: «Мне записка! Дайте!» Тот невозмутимо вынул из конверта ключи и показал пустой конверт: «Записки нет». Но конверт жена сохранила до настоящего времени.
От Деканозова, в сопровождении уже успокоившегося агента, понявшего, что сопротивления я не окажу, я отправился в свой кабинет, взял плащ и, уходя, сказал секретарше: «Сегодня я уже не приду». Она опустила голову, стараясь скрыть слезы. Из дверей одной из комнат выглянул сотрудник Отдела печати Ярошевский, которому, собственно, незачем было здесь находиться в этот час.
Совершенно так же, как встретившийся мне на лестнице заведующий Финансовым отделом, я свободной походкой делового человека вместе с сопровождающим вышел на улицу. Напротив, как всегда, сияли окна «большого дома на Лубянке». Там, как всегда, кипела работа. Мы пересекли улицу и, пройдя по переулку, свернули по направлению к площади Дзержинского в узкую Малую Лубянку.
Прямо с улицы мы зашли в небольшое помещение, напоминавшее экспедицию по сдаче и приемке почты. Но здесь принимали не пакеты, а людей при пакетах. Получив расписку, агент удалился. Он сдал меня на тюремный конвейер. Моя первая жизнь кончилась.
ПЫТКИ
Переживания советского гражданина, попавшего в сталинскую эпоху сразу после ареста в здание НКВД СССР, можно сопоставить с низвержением в ад, но надо при этом в традиционную картину ада внести поправку. Грешники, осужденные церковью, знали, что они — грешники и готовились покаянно принять муки за свои грехи. Но каково было бы праведнику, предполагавшему, что его место в раю, очутиться в «геенне огненной»? От подобного «страха и ужаса» веет апокалипсисом.
Когда я переступил порог тюрьмы, меня поразила какая-то неестественность открывшегося мне зрелища. По плохо освещенному, на первый взгляд пустому, помещению расхаживали люди в военной форме, но в домашних войлочных туфлях. Господствовала полная, но странная тишина, странная, потому что где-то в самой глуби этой тишины таились чуть уловимые звуки и шорохи, источник которых был незрим. По временам раздавалось звонкое щелканье. Я впервые услышал, как щелкают языком или пальцами либо стучат ключом по пряжке пояса охранники, подающие сигнал: «Веду заключенного». Так предотвращалась встреча арестантов. Тот конвоир, который первым дал сигнал, двигался по своему маршруту, другие останавливались за углом или прятали своего подопечного в один из шкафов, для этой цели устроенных на всех путях прохождения конвоиров.
Меня доставили в камеру, расположенную в нижней части корпуса. Лампа, ввинченная над дверью так, чтобы лучи были направлены вглубь помещения, бросала тусклый свет на довольно узкую камеру с тремя койками; две были заняты, третья ожидала меня. Как только щелкнул запор, мне навстречу поднялись два призрака, два бледных человека в нижнем белье. Первый вопрос: «С воли?», второй вопрос: «Это правда, что издан новый уголовный кодекс?». Так я в первые же минуты моего тюремного заключения услышал вопрос, который потом в течение полутора десятка лет не раз задавался и дебатировался в моем присутствии. Столь многих людей не оставляла надежда, что беззаконию будет положен конец и притом простым путем: благодаря новому уголовному кодексу…
Я отвечал, что не интересовался этими проблемами, кажется, была какая-то статья в «Известиях» о подготовке кодекса, кроме того, после прихода Берии в НКВД сообщалось о пересмотре ряда дел. «Впрочем, — добавил я не без достоинства, — я не знаю, с кем говорю». На сей раз не агенты палачей, как это было при моем аресте, а жертвы палачей поняли, что имеют дело с простаком. Мои соседи прекратили разговор и улеглись по койкам. Тем временем я стал читать висевшие на стене в рамке «Правила внутреннего распорядка в тюрьмах»… Теленок до последнего мгновения не знает, что его привели на бойню… Слово «тюрьма» меня больно ранило: «Итак, я действительно в тюрьме!». Но привычный охранительный рефлекс направил реакцию по более спокойному руслу: «Я никогда не бывал еще в тюрьме. Это все же интересно». Я стал укладываться на койке, стараясь себя успокоить такой гипотезой: меня поставили в самые худшие, самые тяжелые условия, ошибочно предполагая, что я знаю какие-то такие подробности о работе НКИД до смены руководства, которых я в обычных условиях не рассказал бы. Словом, меня проверяют. Я выдержу испытание и буду освобожден…
Засим произошло нечто неправдоподобное. Я даже не решился бы об этом говорить, если бы не свидетельства других людей. Улегшись на моей первой тюремной койке, я тотчас же крепко заснул.
Примерно часа в три ночи меня разбудил тюремщик: «На допрос, быстро!». Два конвоира, держа меня за обе руки, сведенные вместе на спине, повели вниз по лестнице, затем по тюремному коридору. У решетчатой двери оформили какие-то документы и вывели меня в один из коридоров главного здания. Меня доставили в какую-то канцелярию; там, несмотря на поздний час, было оживленно, стучала машинка, чиновники говорили по телефону, никто не обратил внимания на появление заспанного и взволнованного человека под охраной. Открыв обитую кожей типичную дверь сановного кабинета, конвоиры ввели меня в большую комнату с завешанными окнами. Меня посадили на стул в середине комнаты.