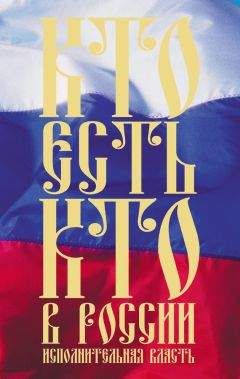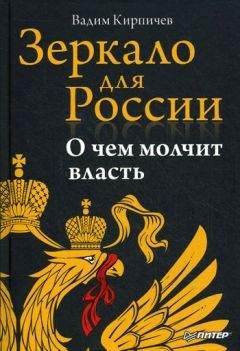Дэвид Хоффман - Олигархи. Богатство и власть в новой России
Годы маразма объединили людей ее поколения в обширную неформальную сеть знакомых и друзей, связавшую семьи, лестничные площадки и учреждения, Москву и отдаленные окраины. Сеть знакомств, или связей, помогала выжить, когда система не справлялась. Эта сеть была частью обширной второй экономики, теневой системы, существовавшей наряду с официальным миром пятилетних планов. Теневая экономика процветала в промышленности, в розничной торговле, на черном рынке — везде, где люди пытались компенсировать недостатки советского социализма. У Ирины была родственница, работавшая в приемной комиссии престижного института. Поступить в него было трудно, и родственница получала подношения от абитуриентов. “Где бы я взяла мясо, колбасу или лекарства? — спросила она однажды у Ирины. — Как бы я обходилась без своих связей? Я была бы беспомощным ничтожеством”.
Если нужно было показаться врачу, вы шли к нему, положив в карман пальто подарок, красиво завернутый в дефицитный яркий пластиковый пакет. Это была не взятка, а общепринятый способ выживания. Чтобы Ирина могла родить дочь в хорошей больнице, ее золовка принесла главному врачу несколько хрустальных ваз и бусы из полудрагоценных камней.
Теневая экономика свила гнездо в недрах официальной системы. В своем стремлении сформировать “нового человека”, свободного от алчности и зависти, советские руководители приложили огромные усилия, чтобы искоренить дух предпринимательства. Система стремилась ликвидировать любую частную собственность и подавить частную экономическую деятельность, не контролируемую государством. Официальная позиция была непреклонной и суровой: людей сажали в тюрьму за экономические “преступления”, такие, как покупка и продажа дефицитных товаров или организация небольшой подпольной фабрики. Десятилетия пропаганды и преследований привели к появлению культа ненависти к тем, кто сам зарабатывал свои деньги. Их заклеймили как спекулянтов и преступников. Тем не менее один из основных человеческих инстинктов, инстинкт предпринимательства, сохранился в этих враждебных условиях. Желание выжить, сделать свою жизнь лучше стало движущей силой теневой экономики.
Писатель Андрей Синявский, приговоренный к семи годам лагерей за публикацию своих произведений за границей, вспоминал, что в советском обществе осуществлялись различные “левые” операции в негосударственной сфере с целью получения личной выгоды. Хищения на заводе или в колхозе стали образом жизни; подпольное “производство” процветало, несмотря на постоянную угрозу попасть под суд. Синявский рассказал замечательную историю о рабочих московского трамвайного депо, которые на собственный страх и риск восстановили старый трамвай, уже списанный на металлолом, и вновь поставили его на рельсы в качестве собственного частного предприятия. “Внешне он выглядел как все государственные трамваи, — вспоминал он, — но водитель и кондуктор работали не на государство, и копейки пассажиров не поступали в государственную казну. Это было частное предприятие в системе социалистического городского транспорта. И даже после того, как преступление было раскрыто, а преступники посажены в тюрьму, люди долго вспоминали историю о частном московском трамвае”{1}.
Годы спустя экономист Лев Тимофеев, часто писавший о сложностях повседневной жизни, вспоминал, как теневая экономика распространялась внутри официальной. “Теневая говяжья вырезка продается знакомым нам мясником в государственном магазине. Теневые дрова растут в государственном лесу. Врач оказывает теневые услуги теневым больным в государственной больнице. Теневая продукция производится в сфере легального производства. Теневые торги идут в кабинетах и коридорах официальных учреждений — и продавцы, и покупатели теневого рынка имеют определенные должности в официальной администрации. Даже два футбольных матча: легальный и теневой (“договорный”) проходят одновременно на одном и том же футбольном поле”{2}.
Все понимали, что обойтись без собственной неформальной сети личных связей невозможно, поэтому десятки лет назад в русском языке появилось слово “блат”, отражающее суть теневой экономики. Сначала оно носило определенную негативную окраску и имело отдаленное отношение к преступному миру, но затем стало означать просто использование друзей и связей для получения чего-либо. В мире блата и связей те, кто контролировал распределение дефицитных товаров и услуг, кто вроде того мясника “сидел на дефиците”, имели реальное влияние на жизнь людей. Как бы ни осуждало советское руководство это официально, правда заключалась в том, что развитие блата было вызвано крахом советской системы, приведшим к дефициту такого огромного количества товаров и услуг, что людям пришлось искать теневой способ удовлетворения своих потребностей{3}.
Ирина и ее поколение хотели большего, гораздо большего, чем могла обеспечить система. Советский Союз казался иногда тюремной камерой с непробиваемыми стенами. Власти строго ограничивали выезд за границу, контролировали переписку с внешним миром и держали под замком все, что издавалось за рубежом. Зло они видели даже в копировальных машинах, доступ к которым был закрыт. Игорь Примаков, ученый-компьютерщик, вспоминал, как часто он сидел с коротковолновым приемником на коленях в своем любимом кресле, вращавшемся на 360 градусов. По ночам в 70-е годы, когда западные радиостанции глушились, он медленно и методично поворачивал кресло на один градус вправо, на два градуса влево, на три градуса вправо до тех пор, пока не ловил Би-би-си или радио “Свобода”. Слушая радио, он выучил английский. Еще одной силой, разрушившей стены Советского Союза, был ансамбль “Битлз”. Вопреки советской государственной идеологии и мифологии “Битлз” произвели неизгладимое впечатление на ровесников Ирины, и они старательно переписывали слова их песен и изучали по ним английский язык.
К началу 1980-х система стала слабнуть. В страну проникало все больше информации о жизни за рубежом, в том числе о благополучии и достатке, царящих в странах капиталистического мира и рекламируемых американской поп-культурой. К самым поразительным последствиям привело появление технической новинки — видеомагнитофона. Когда в начале 1980-х видеомагнитофоны начали тайком привозить в Советский Союз, страну наводнили кассеты с западными фильмами, показывавшими процветание западного общества. Кассеты передавали из рук в руки, и вечер за вечером молодые люди смотрели западные фильмы, иногда по три фильма подряд, до самого рассвета. Они увидели другую жизнь: одежду, манеры, то, как люди общаются друг с другом, какое значение придают деньгам и богатству. Их поражало, что холодильник, который открывал персонаж голливудского фильма, всегда оказывался полным.
Примаков и его жена, социолог Маша Волькенштейн, рассказывали мне спустя несколько лет, как они с друзьями любили играть в “Монополию”, игру, привезенную кем-то из Испании. Целый год они засиживались допоздна, стараясь стать владельцами магазинов и гостиниц. Привлекали не столько деньги, сколько атмосфера западного казино, свободы. Это было Монте-Карло, о котором они мечтали{4}.
А реальная повседневная жизнь сводилась к унылой борьбе за выживание, выживание любой ценой. Казавшаяся монолитной советская плановая экономика дала множество трещин, и люди тратили свои жизни на то, чтобы протиснуться в эти трещины. Когда электричка Ирины остановилась в Купавне, они с дочерью вышли из вагона на платформу, пересекли железнодорожные пути и пошли по тропинке, ведущей к даче.
Купавна была бедным поселком, и ассортимент местного магазина не отличался разнообразием: животный жир в огромной лохани, засиженной мухами, хозяйственное мыло, хлопчатобумажная ткань в рулонах и водка, неисчерпаемые запасы водки. Ирина даже не заглянула в магазин. Оставив вещи на даче, она прошла через березовую рощицу к неприступному забору из бетонных плит, такому высокому, что заглянуть за него было невозможно. Забор мог служить символом монолитности системы.
За забором находился военный городок, в котором жили и проходили службу военные моряки. Ирина понятия не имела, чем они занимались, ее это не интересовало. Она искала дыру в заборе. Дыры заделывали очень быстро, не давая воспользоваться ими. Вот она! В одном месте плиты разошлись, и Ирина смогла проскользнуть внутрь. Она направилась прямо к приземистому зданию, стоявшему у главных ворот, к магазину № 28 Военторга. Официально он обслуживал только офицеров ВМФ и членов их семей, но никто не обратил на Ирину внимания, когда она встала в очередь за голубцами, колбасой и сыром. Она нашла еще одну трещину в безумном мире дефицита.
В очередной раз она нашла способ выжить, прожить еще один день.