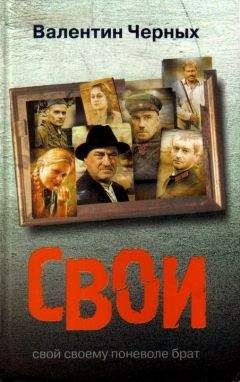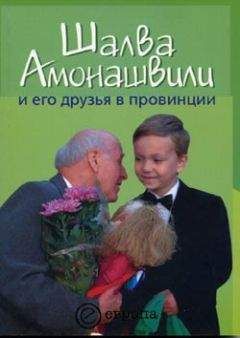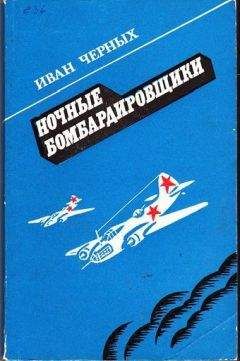Борис Черных - Старые колодцы
У Гаврилова кличка была Барма, пошла она от манеры его плохому оценку вывести: «Барма» – никудышно, мол, худо, из рук вон. Афанасьевцы вообще мастера клички давать. У Михаила Петровича Непомнящих второе законное имя Лепешин, а у Семенова Алексея Ивановича – он женат на приемной дочери Гаврилова – Леха Моргач... Или был такой Сизарь, вовсе не голубиного характера мужик. И Пшенов был... Фамилии иногда забывались, а прозвища – нет.
Гаврилов Николай Александрович по приезде в Афанасьеве ходил в солдатской рубахе, очень смущала эта военная рубаха односельчан. И молчание Гаврилова – непробивное, застойное – тоже плодило антипатию. Бобровников в штатском, блестя очечками, наорет – тут все ясно, хотя после его крика дрожат руки и не проворят работу. А председатель все молчит да молчит. Но скоро зоркие глаза деревенских приметили, какие округлые и добрые черты лица у Гаврилова и как он тихо беседует с отъявленными крикунами: те наскакивают на него, а он увещевает. После уполномоченного Гаврилов, нe отменяя его указов, вел дело совсем по-другому: не выслеживал, не ругал, не корил. Может, он просто понял, что довольно надзирательских глаз тулунского посланца? Может быть...
Однажды прибыла переселенческая семья, ободранная и голодная. Гаврилов велел женщинам принести немедленно в контору еды; пока они бегали, Гаврилов снял с себя гимнастерку и сидел в чистой исподней рубахе. Афанасьевцы прибегли назад (у кого хлеба горбушка, у кого соленые огурцы) и ничего понять не могут: новенький сидит в гавриловской гимнастерке, а председатель в нательном...
Позже еще было – отдал погорельцу новые сапоги Гаврилов и босиком пришел домой.
Явь эта, становясь легендарной, дошла и до Тулуна, там стали смотреть на Гаврилова как на блаженного, скоро отыскали придирки («контроль за народом слабый держит») и освободили. Гаврилов работал полеводом, потом ветфельдшером, но ни на грамм не переменился: был тих, немногословен, от работы не бегал и жене отлынивать не позволял. Еще в пору председательствования он велел Аграфене Осиповне не помышлять о послаблении, больше того, сказал: «Супруга деревенского начальника должна трудиться пуще рядовых», – она, родимая, и пласталась то в поле, то на ферме! Зато уважение к Гавриловым сложилось на селе необоримостойкое, а от них перешло к дочери приемной Евдокии и к Лехе Моргачу. Евдокия и Леха Моргач и сами заслужили почет, исправно работая на любой работе.
Гаврилов любил в отсутствие Бобровникова наведаться в Маврино, на заимку. Там основались крепкие мужики, сбили артель под руководством Василия Васильевича Зарубина и зажили по-семейному. По малости той артели («2-я пятилетка» – нарекли ее) не положено было ей иметь постоянного надзирателя из района, получалось, жили мавринцы вольготнее афанасьевцев, почему Гаврилов, запрягая мерина в ходок, пивал частенько квас у Зарубина.
Не только Зарубин мне о том рассказывал (мы уж бывали в гостях у него– помните в его избе рассказ про лен?), но и Иван Дмитриевич Татарников. Тот и другой отменные молчуны, мне пришлось потратить немало усилий, прежде чем они заговорили о делах общественных. Как я и догадывался, Зарубин и Татарников бежали на заимку в 30-м году. У Ивана Татарникова потрясли отца в Никитаеве, все отобрали, и избу, в той избе нынче почта и квартира почтальонши. А Зарубин загодя отделился от отца-лишенца и, не дожидаясь беды, перебрался в Маврино, немедленно основал артель – это был единственный способ уцелеть. Сохранилось трогательное свидетельство их начала:
«Вторая пятилетка» на 20 января 1934 года. Состоит дворов, семей и одиноких вместе, числом тринадцать. В них трудоспособных числом двадцать два. Вступило в колхоз дворов 1 (один). Вышло 3 (три). Земли 70 десятин, коней 20, коров 20, свиней 30. Построили обчими силами скотный двор». И подпись – детская, ясная: «Зарубин».
Гаврилова быстро спихнули с председательского поста, а Зарубин шесть лет командовал в Маврине. Но в пору репрессий, приобретших массовый характер, что-то случилось с Василием Васильевичем, он всеми неправдами вымолил паспорт и бежал на прииски, в Бодайбо; но мне об этом сам не пожелал рассказать. После Зарубина стал вожаком в артели Татарников, но вскоре «Вторую пятилетку» слили с колхозом имени Семена Зарубина.
Любопытно, как в крохотном Маврине мужики решили вопрос о зимней прибыли: по договору нанимались возить на санях грузы из Нижнеудинска в Бирюсу – лес, мороженую рыбу, муку, говядину. Прибыль явилась ощутимая. В Маврине впервые в наших деревнях начали красить полы – из жибрея получали олифу; в соседнем Афанасьеве крашение полов привилось спустя десятилетия.
Помянул я, что Гаврилов спровадил жену работать на ферму. Общественное животноводство в наших селах поднималось туго – ни в Заусаеве, ни в Афанасьеве, ни в Никитаеве не было хороших помещений для скота, не догадывались еще кохозники об автопоилках или о конвейерной уборке навоза. Весь труд ручной, с ведром да навильником.
В 80-х годах на Афанасьевской ферме было уже до 1000 голов свиней; за каждой свинаркой числилось до ста голов.
Аграфена Осиповна Гаврилова вела 120 поросят. Морочливая забота досталась ей: принять малышей, не дать поросли погибнуть, выкормить и выгулять.
Портной помнит фасоны своей поры, повар помнит блюда, плотник – рубленные им дома, а Аграфена Осиповна запомнила мельчайшие детали работы на свиноферме. Виновато улыбнувшись, она стала рассказывать про удивительную свиноматку. Каждый опорос свиноматка приносила по 20 поросят. Титек было у свиноматки тринадцать, на всех детенышей враз не хватало, так Аграфена Осиповна смену установила или кормила из соски, а чуть поправятся – из корытца, да все тепленьким старалась, от простуды берегла. Свиней она уберегала от болезней – себя нет, не уберегла. Ломит косточки постоянно у старухи, а недавно, летом, вдруг равновесие потеряла и упала, разбившись, в огороде, два месяца отхаживала ее родня.
Доставалось женщинам и в поле. Мелкая пахота, не разрушая гумусный слой, извека способствовала засоренности полей. На своей полосе мужик оберегал пашню, выгоняя всю семью, от мала до велика, пропалывать хлеба или картошку. В колхозе, когда уничтожили межи и пока не было или не хватало машин, молочай и осот полезли дурняком. Всем колхозом выходили в поле, кулюшку драли, полынь то есть, молочай драли, но на скорую руку, будто для чужих старались. По холодку до солнца сорная трава мягкая, а на солнце делалась тугой, да в колючках, корень тянешь – не вытянешь, рвали верхи. А рученьки все равно в крови, спасение – смола. Смолу добывал конюх Митрий – гнал из бересты деготь, заодно и смолу. Между прочим, деготь помогал не только от мошки, но и от болей в желудке, испытанное народное средство в тулунских местах.
Клавдия Никифоровна Белова, одна из рассказчиц, так припоминает колхозную работу 30-х годов:
– Одне говорят, много умели по своему дому че делать. Кто бы спорил, а я не буду. И я умела кой-чего. А в колхозе выучилась еще больше делать. Дома у меня было две коровы, а на ферме стало пятнадцать. Дома у меня такого не случалось, чтобы коровки с голоду мерли, а в колхозе – кожа да кости, в зиму-то где взять еду? Почки березовые сберем, а то на Фадееву иль Заряеву заимку гуртом поедем, с крыш соломы нахватам; она уж черная, солома-то. Коров много на ферме, а надаивали мало... Ой, а за телятами ходишь. Оне, бедные, полягут на болоте, а встать не могут от слабости. Обнимешь, да наплачешься с имя, оне же ласковые малые, по-человечески смотрят на тебя. Подниму я одну телочку, бегу к другой. Ноги нынче ноют и гудят от болота того...
Одна среди многих своих ровесниц Белова выучилась писать и считать. Дома у нее и сейчас для памяти висят цифры: 30-40-50-60... чтобы практиковаться, не забывать счет.
Болезные и хворые, сохранили эти женщины много тепла в сердце... У Клавдии Никифоровны речь ровная, уютная, незлая. Зеленый платок, купленный в Тулуне, она уронила на плечи, похвасталась старинным серебряным колечком, после не удержалась, похвасталась и пенсией; действительно, по сравнению с другими старухами, пенсия у нее большая – так она считает – 33 рубля 56 копеек. В 60 лет, после 45 годов крестьянского беспрерывного труда (никаких тебе ни отпусков, ни санаториев в Крыму), начислили ей 12 рублей ежемесячно, для деревни 60-х годов событие; после добавили 8 рублей; а сейчас, считает Белова, кабы ноги держали, жить и подавно можно.
Во второй половине 30-х годов в колхозах учились поощрять за образцовую работу. Пусть с опозданием, но вняли: не только окриком и штрафом или угрозой тюрьмы можно заставить человека прилежно трудиться, но, оказывается, и похвалой или маленькой премировкой. С промтоварами тогда стало неблагополучно, воспользовались и этим, стали их распределять: положительной доярке выпишут чек на резиновые сапоги, свинарке отрез на юбку – простенькой материи, полеводке – шаленка достанется; глядишь, и гордость взыграет, и настроение подымется.