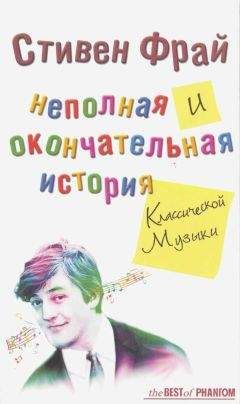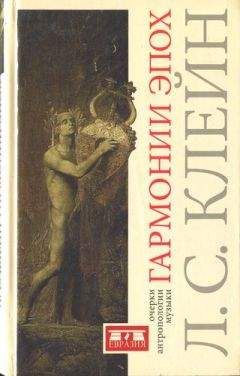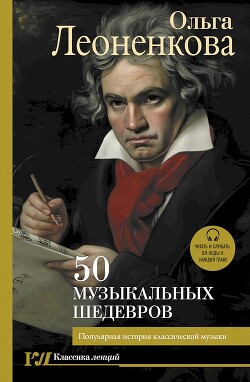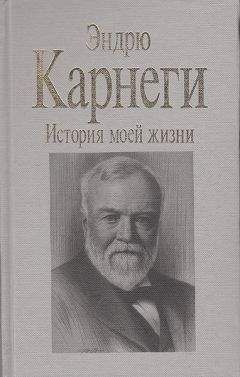Пять прямых линий. Полная история музыки - Гант Эндрю
Одной из ключевых составляющих его метода было заимствование музыки из других сочинений, как своих, так и чужих, и переработка их, как это было принято в барочный период, в нечто новое. Это не было плагиатом: в то время нельзя было лишь просто копировать чужую вещь и выдавать ее за свою, – самоуверенный соперник Генделя на оперной сцене Джованни Бонончини попытался провернуть такой фокус и показательно лишился расположения своей аудитории.
Гендель заимствовал больше, чем многие. Обычно ему это хорошо удавалось: он демонстрировал, что сочинение музыки может быть не только творческим, но и сотворческим актом. Некоторые случаи очевидны: когда в 1732 году «Эсфирь» понадобилось исполнить на праздник, Гендель просто вставил в нее пару своих коронационных антемов, сменив лишь несколько слов. Чаще он переписывал музыку более фундаментально, меняя тембр, слова, структуру, оркестровку и другие составляющие. Лишь изредка такого рода заимствования приводили к стилистическим изменениям: хор «And I will exalt him» в последней части «Израиля в Египте» (1739) (в принципе полного музыки других композиторов) основан на ричеркаре в стиле позднего ренессанса Габриели, что создает слегка неуютное ощущение звучания первой практики, как это было в случае с Монтеверди, соединявшего обе практики в своей музыке сотней лет раньше.
У неуловимого гения Генделя множество аспектов, и часть из них озадачивает. Его отношения с английским языком никогда не были гладкими. В 1732 году театральный директор и драматург Аарон Хилл убеждал его в драматическом потенциале оперной драмы на английском языке: «Я имею в виду то, что вам следует решительнее избавлять нас от итальянских пут; и показывать нам, что английский язык достаточно мягок для оперы, когда его используют поэты, которые знают, как отделить мягкость нашего языка от его прямоты» [397]. Позже, в 1745 году, Гендель, которому было уже почти 60, сообщил, насколько важной была для него эта мысль:
Как мне казалось, соединить хороший вкус и значительные слова с музыкой было лучшим методом для того, чтобы преподнести все это английской публике; я занялся этим, вознамерившись показать, что английский язык, способный выражать точнейшие чувства, лучше всего подходит для любого самого торжественного вида музыки [398].
Однако его орфография, ударения в словах и (очевидно) разговорная интонация оставались характерно немецкими (в партитуре «Мессии» он постоянно пишет слово strength как strenght, а dead как death).
Как и многие другие оперные композиторы, Гендель был заложником качества текстов своих «поэтов», хотя и мог их безжалостно третировать с тем, чтобы получить нужный ему результат (а иногда они его). Его неуживчивый, хотя и блестящий друг Чарльз Дженненс («Саул», «Валтасар», «Мессия») был его лучшим либреттистом. Другие, как, например, Джеймс Миллер («Иосиф и его братья» 1743 года), не всегда обладали способностью избавиться от велеречивости, характерной для XVIII века (хотя Миллер и не так плох, как его иногда описывают).
В свою личную жизнь Гендель закрыл для историков дверь так же прочно, как прочно закрывались ставни его дома на Брук-стрит в туманный лондонский день. Человек, который описывал жизнь, любовь и потери мужчин, женщин, отцов и дочерей с мастерскими изяществом и симпатией, не оставил никаких сведений (помимо коротких и неполных свидетельств) о собственных романтических похождениях. Самые личные из дошедших до нас его писем – письма его зятю о семейных делах в Германии; Телеману он писал о музыке и садоводстве. Его религиозность была обычной для того времени, хотя и очевидно искренней. О нем ходило много анекдотов. (Включая и анекдот о дуэли с Маттезоном по поводу служебных обязанностей в Гамбурге, – согласно Маттезону, стычка закончилась тем, что острие его шпаги наткнулось на медную пуговицу камзола Генделя, спасшую ему жизнь.) Разумеется, подобные истории были разукрашены не меньше, чем арии в da capo.
История не всегда была благосклонна к Генделю. После убийства его «Мессии» немыслимой помпезной оркестровкой она мало вспоминала о нем в течение двух столетий. Оперы пылились в библиотеках – огромная стопка каких-то арий da capo, глупых сюжетов, длинной и скучной музыки и т. д. Вкус и стиль исполнения переменились, что он наверняка предвидел, и о нем забыли или же пытались представить его тем, чем он никогда не был и не мог быть, – своего рода примитивным Элгаром (но не таким талантливым).
Ныне Гендель вновь входит в наш круг. Он предстает перед нами как один из величайших поэтов человеческого сердца.
Современники Генделя различимы в его тени даже менее, чем в случае Перселла, подобно свече при солнечном свете. Но кое-какие проблески до нас доходят.
В народной опере гремели «Дракон Уонтли» Джона Фредерика Лэмпа 1373 года и «Опера нищих» Джона Гея 1728 года, чрезвычайно популярная смесь безбожной сатиры и хороших мелодий. Театральные распорядители вроде Джона Рича устраивали клоунады, полные пощечин, волшебных фокусов и музыки, которые они называли пантомимами, – чрезвычайно шумные английские версии континентальных оригиналов с участием Пьеро и Коломбины, наследие которых до сих пор различимо в наших рождественских постановках. Среди более изысканной публики был популярен Джованни Бонончини, представитель уточненного итальянского стиля, который возомнил себя соперником Генделю (и проиграл), представляя себя своего рода местным изысканным иностранцем. Были и местные таланты: Морис Грин, органист церкви Святого Павла и собутыльник Генделя; близкий коллега Грина Уильям Бойс, автор прекрасной церковной музыки и элегантных симфоний в стиле рококо и соредактор Грина при составлении выдающегося сборника «Кафедральная музыка» 1760 года; а также Чарльз Эйвисон, представитель модного Ньюкасла и создатель лучших английских концертов и трио-сонат XVIII века, написанных в стиле, который он перенял от своего учителя, путешественника Франческо Джеминиани.
Бах (Иоганн Себастьян)
Авторы указывали на сходство биографий Георга Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха с самого начала: они родились хронологически и географически близко друг к другу; у них были общие друзья и коллеги (в частности, Маттезон и Телеман); они знали музыку друг друга и восхищались ей, однако никогда не встречались (хотя не раз предпринимали попытки к этому); в силу печального совпадения оба к концу жизни утратили зрение и «лечились» у одного и того же английского шарлатана, болезненно и предсказуемо безуспешно.
Однако различия красноречивее сходств.
Бах жил счастливой и хлопотной семейной жизнью, занимая несколько постов в небольших городах в той среде, где прошло его детство, в то время как Гендель в одиночестве встречал триумфы и разочарования, зарабатывая себе репутацию в самых звездных и крупных городах Европы.
В качестве композиторов оба демонстрировали гениальную способность использовать окружающие обстоятельства для наиболее полного самовыражения.
Иоганн Себастьян Бах родился в марте 1658 года в большой семье профессиональных музыкантов. Оставшись сиротой ближе к десяти годам, он получил всестороннее и практичное образование в доме старшего брата и в школах для мальчиков, которыми славилась лютеранская Германия. С юношеского возраста он непрерывно занимал должности, которые в течение столетий занимали его отец, дяди, а также родные и двоюродные братья: кантора, капельмейстера, органиста, музыканта в оркестре и учителя при небольших и средних дворах и городах в лесистых регионах его родной Тюрингии.
Основными местами его работы были Веймар, где он играл на органе, расположенном высоко на галерее в ныне исчезнувшей капелле при дворе, которым, что было не вполне обычно, управляли два герцога: один из них ненадолго посадил Баха в тюрьму, когда тот попросил в 1717 году разрешения уехать; Кетен, которым правил «сиятельный князь, любивший и понимавший музыку»: он содержал прекрасный оркестр, однако, будучи кальвинистом, не нуждался в церковной музыке [399]; последней и наиболее продолжительной, с 1723 года, была работа кантора в церкви Святого Фомы в оживленном провинциальном центре, Лейпциге, где прежде работал его друг Телеман и где он писал и исполнял музыку для служб в главных церквях города, преподавал (и жил) в школе, а также сочинял пьесы для разнообразных светских мероприятий и, позже, для концертных серий, проходивших в кофейне Циммермана. Он был требовательным и неуступчивым работником, регулярно досаждавшим начальству своими замечаниями о том, что он полагал упущениями в деле создания надлежащего музыкального окружения (а также жалобами на недостаток денег), в то же время получая выговоры за небрежение работой, которая была ему неинтересна: «[он] вел себя неподобающе… Отправил певчего в деревню; уехал, не спросившись… пренебрегал занятиями с певчими… не выказывал никакого усердия в работе… были и еще жалобы… Кантор не только ничего не делал, но и не желал объяснять почему». Один лейпцигский городской советник назвал его «неисправимым» [400].