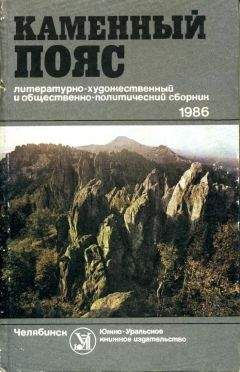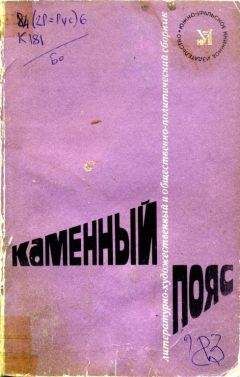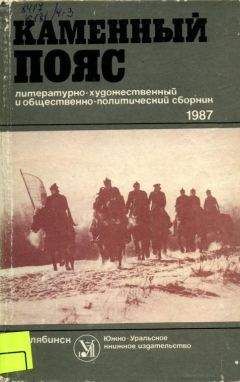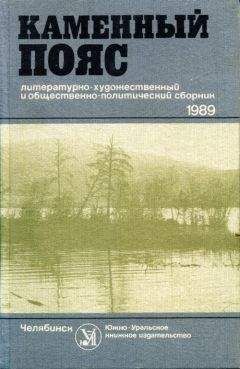Георгий Саталкин - Каменный пояс, 1988
До земли огненные цветы не долетали, гасли, а с неба что-то сыпалось. Семена огненных цветов, как из спелого мака.
Мы — собирать семена. Пожалуйста! Вот они под ногами. Сколько хочешь. Видно, как при солнце. Потому что ахает без передышки. Раз за разом. И небо горит.
Решили с братом, усадим семенами всю улицу.
Вот как расцветут огонь-цветы, будет всем радости. И взрослые добрыми станут. То-то они радовались букетам в небе. Пропадут злые люди. Играй на улице хоть до утра.
ГЕОРГИНЫ
Цветы появились на нашей улице после войны. До того каждый клочок земли вскапывали под картошку.
Июнем победного года, кислица уже перестаивала, вернулся дядя Коля, Женькин отец, единственный с нашей улицы.
Конечно же, мы, мальчишки, с рассвета засели караулить дядю Колю.
Солнце накалилось до ослепительности, сморило нас, недоспавших, как вышел он. Слева-то, слева на гимнастерке солнышками вспыхнули медали. Настоящий фронтовик-герой!
Только что это он без пилотки, без ремня. Женька столько хвастался. Мать ему все обещала: «Вот придет папка, он из тебя ремнем всю дурь вышибет». И погон не было. Только темные пятна на плечах.
В дверях дядя Коля потянулся. Поднял руки совсем не по-боевому.
Полагалось бы ему подсесть к нам и рассказать, как бил фашистов-гадов. Только он не подошел, а потянулся и опустился на приступок. Тогда у них сеней не было. Ни сеней, ни крылечка, так себе, приступочек.
Присел он. Нашарил в галифе портсигар. Конечно, трофейный. Говорят, навез добра, на всю жизнь хватит.
Размял папироску, понятно, трофейную. Наши папки садят самокрутки. Они трофеев не добыли, сталь варили по броне.
Смял гармошкой мундштук. Щелкнул блестящей зажигалкой. Тоже из Германии. И решили мы, дядя Коля задавака, в Женьку. Конечно, герой, а мы пацанва, но все же…
Накурился он. Такой «бычище» щелкнул в траву, нам всем дыбануть хватит. У наших папок такого не уследишь, махра дороже хлеба. Накурился дядя Коля, сказал что-то Женьке. Тот растерянно взглянул на нас и убежал в дом.
Наконец-то! Сейчас Женька вынесет трофейную диковину.
Он появился в дверях с лопатой. По слабосильности волок за собой, ухватив обеими руками. Обидно стало! Ждали-ждали. Мерзли-мерзли. Есть охота. А тут лопата. Причем тут лопата. Картошку-то давно посадили, цвет набирает, скоро окучивать.
Догадливый Артурка крутнул пальцем у головы. Мол, контужен. Известно, если контужен, делает, что не надо. Жалко стало Женьку. Столько ждал, а отец…
Дядя Коля вскопал лужайку под окнами. Так уж он старался, прошелся лопатой на два раза. Разбил до комочка. И посадил картошку. Видели мы, Женька притащил в свертке. Растянулся в исполнительной спешке, она и вылетела.
Закопали они картошку, полили. Дядя Коля ушел домой, а Женька — к нам.
— Крепко отца-то? — поинтересовались мы.
— Чего крепко?
— Чего, чего. Того. Контузило.
— С чего это вы взяли?
— А чего это вы картошку сажали среди лета?
— Картошку… Смотрите на этих чудиков, — расхохотался Женька, — это же георгины. Из Германии.
— Ну и как?
— Что как?
— Чо да чо. Зачокал. Вкусные?
— Ой, уморики, — закатился Женька. — Да это же цветы.
Вся улица караулила, когда зацветут трофейные цветы.
Георгины зацвели поздно, как убирать картошку. Робкий, пробился первый язычок пламени. И днями дружно охватило весь куст. Запылал жаркий кострище.
Недолго горел этот костер. Цветы срезали на крышку гроба. Дядя Коля умер. Осколок, гулявший по телу после ранения, кровь прибила к сердцу.
А георгины порасселились по соседям. Осень от осени все больше палисадников охватывал их памятный огонь. И георгины, что сегодня дарят моим землякам языки удивительного пламени, с того привезенного из Германии дяди-Колиного трофея.
ПО ЯГОДЫ
За ягодами пойдешь, далеко уйдешь.
По ягоды пойдешь, домой придешь.
ПрисказкаЭто все Володька Кузнецов виноват. Сманил. Идем да идем.
И пошли мы по ягоды.
По переулку поднимались, еще ничего. Только бы мамка не увидела. А дальше не по себе. Все чужие.
Дальше-то и домов нет, ямы. Нарыли их перед войной под дома, а строить — некому.
И сейчас некому. Где их взять, мужиков-то? Слышали мы, как Кузнечиха завидовала мамке:
— Тебе что, твой-то под боком, а мой, царство ему небесное, через то и Володька ширмачит.
— Ну и выходила бы замуж, молодая пока.
Кузнечиха и объяснила:
— Выйдешь! Разбежишься. Нынче мужик дорогой, кочевряжистый. «Сучком» и то не заманишь на ночь.
Ну, а дальше нас выгнали. Не слушай, что не следует. Да все равно понятно, мужик дорогой.
Вот и ставят дома пленные. И правильно, поубивали наших и ставьте. За них.
Проходили мы, немцы как раз обедали. Веселые, будто и не пленные. Что им не смеяться. Кормят вот. А с едой, небось, не лучше, чем в войну.
Попросить бы кусочек. Ну да! Если б наши, тогда. А то. Да и не подойдешь. Вон часовой, автомат меж колен. Тоже ест.
Обошли мы пленных. Слюнкой заглотались. Хлебца-то не прихватили. Как же, возьмешь! Мамка: опять кусочничаешь, ешь дома. Не выпустит с куском.
Ну, а за ямами совсем пусто. Лес был. В войну свели. Теперь до него тёпать да тёпать. Да-алеко синеет, у небушка.
Запереглядывались, вернуться бы?
— Вы чо, пацаны? Назад покойника не носят.
Не носят так не носят. Потёпали мы к лесу. Дошли. Оглянулись — страшно. Домики со спичечный коробок.
Зато земляники тут! Не то что на Татарке. Там травинку насобираешь и надоест. А тут… Тук, тук в банку. И уж не тукает. Донышко покрыло. Мамка, что мамка. Полную банку принесешь, только ахнет. Про ругань забудет.
Может, так и было бы, а только за горой ахнуло раньше. Выгнало тучу. Пухлую, черную. И пошло пластать. Ну и заахало, погромче, чем в салют. Се-ердито.
Это Илья-пророк по небу скачет по своим делам. На колеснице. Торопится, сердится. Молнии из-под колес. А тучи — пыль клубами. Его будто и разглядеть можно. Разглядишь! Подними-ка глаза. Как вдарит молнией. Не любит Илья-пророк, чтоб разглядывали.
Нам бы под дерево, переждать дожжину, а у нас душу в пятки. Мы — деру.
Тучи все пластеют. А ну как развалятся, не удержатся. Да на нас. Ну и дождь, понятно, как из ведра. Банки полны. Не ягод — воды. И не выльешь, ягоды-то сверху плавают. Бежим, давимся. Ревом и ягодами. В рот их кидаем. Что уж теперь.
Добежали до ям, гром и примолк. Радоваться бы. Обсинило небо, запарило землю. Да какая уж радость. Пленные-то ушли. Значит, смена кончилась. Отец с работы вернулся. Не мамка, не отговоришься, не разжалобишь.
В переулок спускаться — Володька отстал.
— Я, пацаны, к Оплюне, свинчатки обещал на жестку.
Вот какой. Сманил, а отдуваться, так назад пятки. Сдрейфил.
КОЛОКОЛЬЧИКИ-БУБЕНЧИКИ
Колокольчики-бубенчики гремят.
Скачут наши кони три часа подряд.
Истомились, отправляясь в дальний путь.
Не пора ли нам, дружочек, отдохнуть
Из песниЯ почему его заметил, аккордеон он нес. Блеснул куском неба в толпе, приворожил. Вел его рыженький парнишка. Потому что он был слепой.
Они продавать принесли аккордеон. На такую-то прелесть да без охотников? Их окружили. Потянулись опробовать на слух. С рук на руки. Куда как хорош, да дорог.
Сочно, послушно рокотал аккордеон. Слепой хмуро водил следом глазами. Видит? Ничего он не видел. Пустые глаза еще кровянели болью, а он уже слышал ими. Веки чутко отзывались на звуки.
Покупатель нашелся скоро. Кудряш в обтерханном кителе задержал аккордеон на груди. Вложил в вялую руку слепого пачку красненьких. Слепой начал было перебирать, но сбился, беспомощно заворочал головой. Рыженький догадливо принял деньги.
Слепой настороженно замер, очевидно, по шелесту пытаясь уловить счет. Но не дослушал, а протянул руки на невеселое бормотанье аккордеона. Кудряш недовольно скривился, но вернул покупку.
Пальцы слепого знакомо приласкали радостный перламутр, нетерпеливо пробежались по ладам, давнули на басы и облегченно замерли.
Народ малость поутих, подался. Пусть потешится напоследок. И слепой, уронив голову в голубое сиянье мехов, повел мелодию.
Поначалу не слышно было. Похоже, играл он для себя, а как стал давать звукам силу, уловил я что-то знакомое-знакомое. Как он запел, ясно стало. Любимая песня дедушки. Запевал — все гулянки умолкали, распьяным-пьяны слушали.
Голова ль ты моя удалая,
Долго ль буду носить я-а тебя
И слепого слушали.
Сбил молчанье развеселый разухай. Крикнул рыженькому: