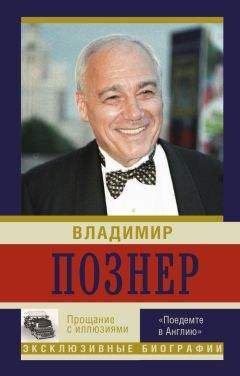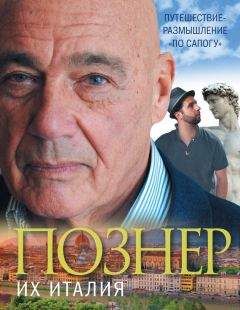Владимир Познер - Познер о «Познере»
В. ПОЗНЕР: Ваша мама Лилиана Лунгина была переводчицей со шведского языка и перевела, в частности, книжку «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Так мы ее узнали. И многие, в том числе и я, влюбились в нее благодаря документальной ленте «Подстрочник», пролежавшей десять лет и, к сожалению, вышедшей после ее смерти. В вас кого больше — Малыша или Карлсона?
П. ЛУНГИН: Карлсона, конечно.
В. ПОЗНЕР: Ваша мама на вас сильно повлияла?
П. ЛУНГИН: Мама была очень яркой личностью. И безусловно, она на меня влияла. У нас с ней была близость невероятная, ругань и ссоры, и снова — близость. Она вообще была необыкновенным человеком. Могла взять меня и нескольких моих одноклассников и пойти с нами куда-то или на Кавказ вдруг поехать. Она была отважная. Занималась с нами французским, вообще пыталась как-то влиять на нас, формировать нас.
В. ПОЗНЕР: Когда вы уехали во Францию?
П. ЛУНГИН: В 1991 году. Но я не то чтобы уехал — я все время туда ездил. У меня никогда не было эмиграции, работал я здесь. Просто начал жить во Франции немножко больше. Там мне давали деньги, а тут — никогда. Тут кино вдруг замерло. «Такси-Блюз» почему-то имел во Франции феерический, сногсшибательный успех. Я пережил свои мгновения славы, таможенники французские меня узнавали. Помню, как официант выскочил из кафе с подносом — узнать у меня, я ли это, и получить автограф. Тогда очень многого ждали от России, от перестройки. И этот фильм в какой-то степени был ответом на ожидания нового мира, который пришел. Однако последние шесть лет я практически не вылезаю из России. И это можно понять по тому, что я делаю фильм за фильмом. Мне некогда даже съездить. Хотя иногда хочется во Францию.
В. ПОЗНЕР: Вы были на встрече с Путиным во ВГИКе? Разделяете ли вы его мнение о том, что «не деньги порождают талант, а таланты порождают деньги»?
П. ЛУНГИН: На встрече не был, я ведь не учился во ВГИКе. А с высказыванием его и соглашусь, и нет. Потому что талант в какой-то степени — это статистическое дело. В том смысле, что если сделать сто фильмов, то десять из них будут интересны. В кино это так. Но вообще, в России ситуация немножко иная. Мне кажется, что все талантливые люди здесь даже слишком облизаны, взлелеяны. Им дают снимать, идут на все их условия. Смотрите: любой режиссер, который хоть как-то мелькнул, хоть что-то показал, мгновенно становится востребованным.
В. ПОЗНЕР: А как же тогда утверждение Никиты Сергеевича о том, что нужен миллиард долларов, чтобы поднять нашу киноиндустрию на уровень, позволяющий состязаться с Голливудом?
П. ЛУНГИН: Это нужно, потому что наши фильмы не конкурентоспособны. Вот сейчас мы посмотрим на судьбу «Царя», потому что он был сделан с какими-то средствами, его не назовешь малобюджетным. У нас вообще кино не стало индустрией. У нас нет стойкого, известного способа финансирования фильма. Каждый режиссер или продюсер, как грибник, идет в большой лес жизни, и там под кустиком ищет инвестора, или какие-то деньги, или какого-то сценариста. Кто-то едет в Сибирь, находит там романтического сибиряка и отнимает у него несколько миллионов. У нас это не стало индустрией. Мне с «Царем» очень помог «Банк Москвы». Конечно, если бы не эти люди, если бы не Бородин, фильма просто не было бы.
В. ПОЗНЕР: В вашем фильме три главных действующих лица: власть в лице Ивана, Церковь в лице Филиппа и Народ. Картина жутчайшая. Иван — безумец, дико жесток, считает себя почти что Богом, страшен — это не то слово. Филипп — добр, героичен, готов к самопожертвованию, но бессилен. И, наконец, народ — раболепен, жаден до денег и крови. Российская действительность и так-то не очень радует. И когда сегодня я вижу такую Россию XVI века, то волей-неволей думаю: «Мне показывают, видимо, не только то время».
П. ЛУНГИН: По сути дела, народа в моем фильме нет. Он там присутствует как некоторый вопросительный знак, он — как то самое безмолвие, о котором мы читали у Пушкина.
В. ПОЗНЕР: Но он дерется за деньги, он орет, когда медведь разрывает на части, встает на колени, когда выходит царь.
П. ЛУНГИН: Нельзя сказать, что мы говорим именно о России. Так же себя вел и римский народ, и французский, например. Это просто поведение человека. Шекспировская, героическая история столкновения двух характеров. Мне не удалось впустить туда народ. Я думал об этом, и мы с Алексеем Ивановым бились. Понимаете, ответ народа только один, и то это описано, я забыл — у Карамзина, что ли? Там, кстати, очень много всего интересного, несмотря на поэтический рассказ. Была история, когда народ не пришел на казнь, на праздник казни. Люди испугались, забаррикадировались у себя, выключили свет. Но к ним приходили, стучали.
В. ПОЗНЕР: Я решил, что вы это просто придумали.
П. ЛУНГИН: Я придумал эти невероятные пыточные штуки. Но вообще там гораздо больше. Медведи, например. Мне многие могут сказать, мол, вот он, языческий мир, первые христиане, разрываемые на римских аренах. Но у Грозного было пятнадцать медведей — специально, чтобы рвать людей. Даже в летописях сохранились упоминания об особо лютом медведе Андрейке. Описан случай в летописи, когда на семерых монахов напустили семерых медведей. Грозный любил, например, со своим сыном, впоследствии убитым им, выпустить медведей в Кремле на народные гулянья. И они там шли в толпу, кого порвут, кто убежит — им было смешно. Остались упоминания в казначейских книгах о том, кому сколько заплатили — честно потом платили за смерть и за увечья.
В. ПОЗНЕР: Я считаю, что есть два фильма об Иване Грозном — Эйзенштейна и ваш. Все остальное — это так. У Эйзенштейна Иван одинокий, страдающий, его жену отравляют, на него готовят покушение, вокруг враги и предатели. И даже опричники у него, скорее, вызывают симпатию. У вас же диаметрально противоположный взгляд. Как вы это понимаете? Эйзенштейн хотел угодить Сталину и создал такой образ?
П. ЛУНГИН: Прежде всего вспомним, что у Эйзенштейна есть первая серия и вторая — и они очень разные. Представьте себе: война, эвакуация — и государственный заказ. Конечно, работая над первым фильмом, он выполнял заказ. Не знаю, может, меня киноведы убьют, я не киновед, но я не думаю, что Эйзенштейн любил Грозного. Мне кажется, он вообще не коснулся психологии этой личности. Фильм предельно антипсихологичен. Там есть невероятная эстетика, и он как гений, как великий художник, ушел в божественную эстетическую красоту. И понравился. Там все было поставлено — объединение России, заговоры бояр. Какие там заговоры бояр? Такие же, как у маршалов или у большевиков против Сталина. А когда пришла пора для второй серии, Эйзенштейн, окрыленный успехом первой, позволил себе чуть-чуть показать изменения личности, ужасы, страхи, недоверие. То есть Грозный и Черкасов начали оживать. И тут же режиссеру жестоко дали по рукам, фильм был запрещен, он впал в немилость. Так что мне кажется, что Грозный Эйзенштейна — это все-таки эстетический подвиг мастера.
В. ПОЗНЕР: Вы утверждаете, что, обращаясь к давней истории, ищете смысл. Вот ваши слова: «Мы живем в эпоху чудовищной потери смысла. В обмен на некоторую комфортность существования у людей отняли смысл жизни. Человек не рожден для того, чтобы осознать себя как небольшое, но рентабельное предприятие, в которое он вкладывает деньги. Поэтому люди отчаянно ищут, откуда и куда мы идем. И эти вопросы «Кто я?», «Зачем я существую?» становятся главными для нас». Я хотел спросить: что значит «отняли смысл жизни»? Кто отнял?
П. ЛУНГИН: Не знаю, как передать это чувство — я его очень хорошо ощущаю. Помню, у меня была какая-то творческая встреча на канале «Культура», и встала одна девочка, красивая, она до сих пор стоит у меня перед глазами — интересно было бы найти ее. Она вдруг сказала: «Павел Семенович, а мне кажется, что у нас украли жизнь». Эта фраза вошла как удар какой-то. Я подумал: «Как хорошо». Откуда это чувство украденной жизни? Откуда ощущение, что нет смысла? Мне кажется, что внешне патриотические чувства, связанные, например, с тем, что мы болеем за футбольную команду, конечно, не наполняют людей. Непонятно, что это за государство сейчас — Россия, к чему она идет, что является ее целью. Вот у Франции как у государства есть некая социальная цель — чтобы была справедливость, чтобы правильно работали суды, чтобы матери кормили своих детей. Государство активно работает и пытается выстроить систему ценностей внутри себя: оно ориентировано на слабых, на бедных, на тех, кому надо помогать, не теряя своего французского достоинства. Там, кстати, не спрашивают, нужно ли давать деньги на кино или нет, они дают, ничего не говоря, потому что знают: иначе американское все задавит. А здесь я не вижу единых приоритетов — ни духовных, ни интеллектуальных. Я не понимаю, в этой стране хорошо быть умным или нет? А вором, может, лучше? Или ментом? А может, не надо быть умным вором? Может, нужно идти в университет? Или в горы — заниматься альпинизмом? Вообще, что выбирать? Только грести? У меня такое чувство, что страна в какой-то непонятности и растерянности бешено загребает под себя разные мелкие материальные ценности. Совершенно никто или мало кто занимается благотворительностью, культурой, тем, что делает из страны великую страну. Например, почему возник фашизм? Потому что было наполнение смыслом. Пришел манипулятор, кукловод и сказал: «Я дам вам жизнь. Вы должны быть самыми сильными. Тут все врут, все прогнило. Возьми пистолет, убей адвоката». И эти ребята действительно смотрят — тут воруют, тут прогнило, тут вообще непонятно зачем жить. Пустое место должно заполняться нормальными добрыми и духовными ценностями, а оно заполняется всякой нечистью и мразью. Отсюда — сектанты, фашисты.