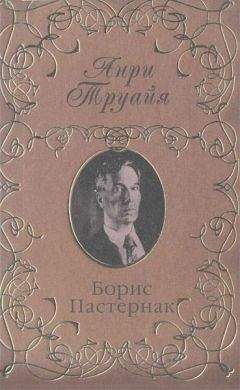Джордж Моссе - Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма
Петер Мёнкеман сделал шаг вперед. Он с угрозой посмотрел на толстяка, вперив взгляд в его безобразное жирное лицо.
— Вы так не сделаете, — выдохнул он. Кулаки его сжимались и разжимались конвульсивно, но он этого не замечал. — Вы не сделаете этого, — повторил он, подойдя вплотную к столу.
Лицо Лёвенштайна побледнело, став неожиданно серым. На нем был написан нескрываемый ужас. Глаза его почти вылезли из орбит, вены на висках надулись и пульсировали, капли пота одна за другой собирались на морщинистом лбу. Будучи только что хозяином положения, он буквально съежился и представлял собой, несмотря на внушительные размеры, обломок человека. Приподнявшись из глубокого кресла и отпрянув немного назад, он протянул руку вперед и нажал на кнопку зуммера.
— Убери лапы от зуммера! — гневно приказал посетитель.
Однако Лёвенштайн продолжал жать на кнопку и вдруг стал выкрикивать:
— Это угроза… шантаж… конечно же шантаж и вымогательство!..
Голос его дрожал. Слова эхом отдавались в кабинете, а он все повторял их, словно сойдя с ума от страха. Он все еще продолжал выкрикивать, когда дверь отворилась и на пороге появился слуга. Петер Мёнкеман сделал шаг назад. Его гнев пропал, как рассыпаются карточные домики, при виде безумного ужаса жалкого негодяя.
Но брокер стал опять хозяином положения, придя в себя настолько быстро, что удивил Петера. Указывая пальцем на парня, он крикнул:
— Выставь его за дверь.
Голос его, однако, не обрел еще четкости и звучал подобно хрипу дикого животного.
— В этом нет необходимости, — отреагировал Мёнкеман. — Я найду дорогу и сам.
Увидев его угрожающий взгляд, слуга не осмелился подойти к нему ближе.
— А вы обдумайте мое предложение, — продолжил Петер, обращаясь к брокеру и выходя из комнаты.
Закрыв за собой дверь, он тем не менее услышал, как тот сказал, распалясь, как бы продолжая начатый разговор:
— Ничего пересматривать я не буду, ипотека прекращается… и немедленно! С официальными последствиями!
Молодой человек остановился в нерешительности.
«Надо ли… или нет? Ведь этот негодяй, бывший всего несколько минут тому назад мешком из костей, опять оскалил зубы. — Мёнкеман все еще держал ручку двери. — Откуда у него столь оскорбительное высокомерие? Ну конечно же, у него был свидетель, домашний раб, его защита».
Выходя из дома, сказал швейцару:
— Передайте своему Зигфриду от меня большой привет! И сделайте это немедленно, да скажите, что он еще узнает Петера Мёнкемана, если попытается выполнить свое намерение!
За этими словами, однако, ничего не стояло, это он хорошо знал. Сев в трамвай, шедший к дому, он еще раз проанализировал происшедшее. Он ничего не добился, в этом не было никакого сомнения. И даже наоборот, было бы лучше, если бы он никуда не ходил. А теперь положение стало хуже, чем было до этого. Этот манекен расправится с ними быстро, поставив официально вопрос о прекращении ипотеки, зная условия на денежном рынке лучше, чем кто-либо другой. В эти тяжелые времена денег у всех мало. Он не найдет никого, кто смог бы профинансировать новую ипотеку.
«Дела плохи в немецком отечестве… — подумал он с отчаянием. — Остается только ругаться. В чем же дело? — размышлял он. — Мы выигрывали сражения, но проиграли войну. Не лучше обстояли дела и с добровольческими корпусами. Нам удалось обуздать красный сброд, но триумфа не получилось. И даже наоборот, когда все было закончено, получили сверху пинок в задницу.
Торжествуют другие. Посмотри вокруг и увидишь, что это происходит повсюду… и где же находятся эти люди? Глупый вопрос! Проще сказать, где их нет. Нет ни одной более или менее высокой должности, правительственного учреждения, любого управления, профсоюзов, деловых контор, ведомств, советов директоров, где бы их не было. Тех самых, кому следует размозжить голову, и не только в песнях[28].
Наши добровольческие корпуса вели борьбу с красным террором, против коммунистического сброда убийц, на Западе и Востоке — от Балтики до Рура, но мы забыли о евреях. И вот теперь они ломают нам черепа, иногда с помощью этих самых двенадцати процентов. Мы оказались внизу, а они наверху. Кто знает, может, было бы лучше, если бы победили спартаковцы?[29] Ведь довольно часто дьявола изгоняет Вельзевул».
— Нет, — пробормотал он. — В конце концов, это одно и то же — щепки от единого куска дерева. Не стоит забывать, как выглядел комендант города в марте 1920 года. О, этот сумасшедший мир!..
И на следующий день Петер Мёнкеман уезжал в Берлин на учебу.
Поезд его отправлялся через два часа, так что времени у него было достаточно. И ему захотелось сжечь все мосты за собой, оставив все былое в прошлом, чтобы двигаться дальше с легким багажом. В противном случае он не сможет продвигаться вперед достаточно быстро, как бы ему хотелось.
Так что же предпринять за эти два часа? Естественно, надо было пойти к Зигфриду Лёвенштайну и кое-что сказать ему.
«Хочу, чтобы вы знали: деньги на ипотеку готовы. Но как только они будут выплачены, то благодаря Богу мы не будем иметь уже никаких дел друг с другом. Своими двенадцатью процентами вы будете дурачить других. Вы все-таки ростовщик. Так что никакого ареста имущества как несостоятельных должников не будет. Я об этом позабочусь, еврей!»
Он не мог отказать себе в таком триумфе. К тому же надо было ведь что-то делать. Без подобного заявления этот толстяк, чего доброго, придумает новые трюки с матерью и сестрой Петера.
И он отправился в контору Лёвенштайна. Увидев его, еврей был охвачен ужасом и пролепетал:
— Это опять вы?
— Да, это я, господин Зигфрид Лёвенштайн. К вашему сожалению, довожу до вашего сведения, что деньги для рефинансирования ипотеки у меня есть. С ростовщическими процентами будет покончено. Ваш бизнес — просто надувательство. Но теперь уже без нас, господин Зигфрид.
Он улыбнулся сально и злобно. Затем сказал медленно, почти с наслаждением:
— Итак, вы нашли глупцов. Я ошибался… такое случается… столько денег — столько денег, — но кого же вы надули? — если это правда!
Не говоря больше ничего, Петер Мёнкеман перегнулся через стол, схватил брокера одной рукой за ворот, приподнял, тряхнул из стороны в сторону и оттолкнул назад. Затем, внезапно взорвавшись, бросил тому в лицо, придя в ярость:
— Еврей… еврей… грязный еврей!
Лёвенштайн издал дребезжащий звук, но кричать не стал. Не стал кричать он и когда разъяренный верзила отпустил его. Затем усталым движением взял две пуговицы, отскочившие от рубашки на стол. Выходя из кабинета, Петер заметил, что рука еврея с нанизанными кольцами схватила трубку телефона.
«Теперь пора», — подумал парень.
Зигфрид Лёвенштайн быстро оценил обстановку. Что произошло? Какой-то малый, ничего не представляющая собой личность, выкрикнул слово, которое действовало на него больнее, чем удар кнута. Более того, этот парень схватил его за ворот не очень-то деликатно, произнеся, что нашел требуемые деньги. Это весьма и весьма неприлично, но стоит ли звонить в полицию? Смехотворно! У него были другие методы. Методы, дававшие ему возможность излить свой гнев и в то же время приносившие деньги.
(Веллер Тюдель. Хулиганы и дебоширы (Петер Мёнкеман прокладывает себе дорогу). Мюнхен, 1938.)
Эккарт фон Надо
События в Прусском государственном театре
Хотя все и было уже в основном «скоординировано» и «арианизировано», пресса и публика еще не отучились давать собственные оценки тем или иным событиям и явлениям. Когда подошла зима, то они с сожалением констатировали, что театр «Штаатсбюне», постановки которого вызывали разноречивые толки, но были в то же время интересными для публики, переживал опасность превращения в филистерский провинциальный театр. В то время такие критические замечания были еще возможны, позднее — уже нет.
Специфично, что Геббельс ввел «художественное обозрение» вместо критики. Точнее говоря, можно было сделать «обозрение», дать же оценку было запрещено. Тем самым критика как проявление мнения была исключена. «Деятели искусства», как стали называть актеров, композиторов, художников, скульпторов и писателей, перестали быть таковыми. Да и видеть себя со стороны они уже не могли: не было зеркала. Они уже не знали, хороши или плохи их творения. Становилось лишь известным, что кто-то из них что-то сотворил, и только. Истинную правду мастера журналистики должны были камуфлировать. Похвалить, правда, было можно. Но и это опять же не было оценкой, что оберегало патетическую пропаганду коричневорубашечников от малейшей критики.
В то время происходило довольно много смешного и нелепого. Так, образ Шарлеманя как драматического героя был запрещен, поскольку он оказался чужд расовым принципам «саксонских мясников» и выступал как представитель христианского шовинизма. В то же время против Кароля Магнуса возражений не было. Да и Кромвель считался безобидной фигурой и даже превозносился фюрером. Реальные действия Кромвеля замалчивались. В обиходе был Юлий Цезарь, хотя конец его жизни вызывал много вопросов. В массе запретов и разрешений разобраться было довольно трудно, так как превозносившиеся личности по непонятным причинам вдруг попадали в список запрещенных.