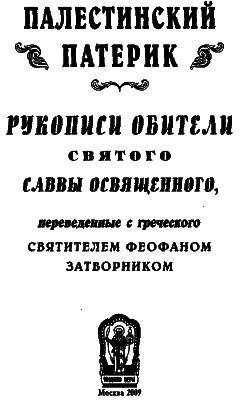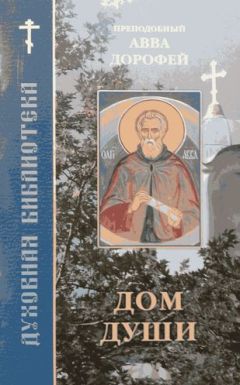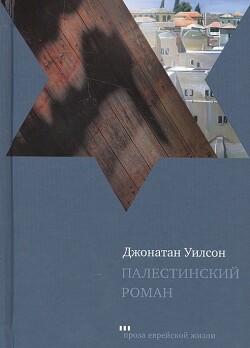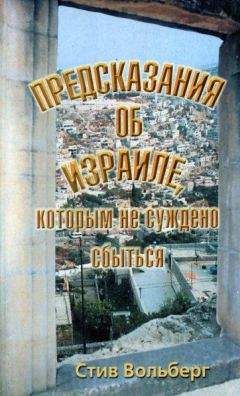Израильско-палестинский конфликт. Непримиримые версии истории - Каплан Нил
Циклы насилия 1970-х и 1980-х гг. сформировали обновленную версию неразрешенного основного противоречия, которое мы уже рассматривали в контексте арабского восстания 1936–1939 гг. и израильских актов возмездия 1950-х гг., — вопроса о правомочности насилия, его последствиях и оправдании. Историк Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Нетанел Лёрх осуждал насилие со стороны ООП как продолжение арабской агрессии, основанной на «принципах, изложенных десятки лет тому назад». По его мнению, реакция сионистов и израильтян ни в коей мере не была симметричной:
С самого начала сионистские военные организации возникли как реакция на обращение арабов к насилию, как самооборона от нападений как регулярных, так и нерегулярных вооруженных сил. Сами названия сменявших друг друга организаций — «Хашомер» («Страж»), «Хагана» («Оборона»), ЦАХАЛ («Армия обороны Израиля») — свидетельствуют об их основной миссии. Может показаться парадоксальным, что движение, а затем и государство, которое никогда не рассматривало насилие в качестве средства достижения своих целей, практически постоянно вело вооруженную борьбу [350].
В десятилетия после войны 1967 г. американцы в целом поддерживали позицию Израиля, согласно которой ООП должна быть исключена из дипломатического процесса, пока она не одобрит резолюцию № 242, не признает право Израиля на существование и не осудит терроризм [351]. В эти годы бойкот ООП сопровождался множеством неловких моментов, когда в рамках кампании по дискредитации претензий этой организации на роль законного выразителя интересов палестинского народа израильтяне или американцы пытались вести дела с палестинцами, «не поддерживающими ООП». Палестинцы, со своей стороны, отвергали описание своей борьбы как «терроризма»; предварительное условие американцев/израильтян, требующее, чтобы палестинцы от нее отказались, казалось им решительно несправедливым. Как саркастически заметил Рашид Халиди, США и Израиль «требовали от палестинцев прекратить сопротивляться незаконной оккупации в качестве предварительного условия для того, чтобы им позволили вести переговоры о прекращении этой оккупации» [352]. В следующие 15 лет ООП твердо стояла на своем, отказываясь признать резолюцию № 242, поскольку та не учитывала нужд палестинцев и минимальных требований к справедливому и прочному миру [353]. Почти так же упрямо, как израильтяне и американцы исключали ее из дипломатической игры, ООП вплоть до 1988 г. придерживалась политики, не допускавшей никаких компромиссов или одобрения резолюции № 242; казалось, организация планировала возвращать Палестину почти исключительно вооруженными методами.
В начале 1970-х гг. наметились слабые признаки того, что ООП может отказаться от категорического непризнания Израиля, закрепленного в Национальной хартии, и, по мнению некоторых аналитиков, «постепенно… согласиться с двухгосударственным решением» [354]. Однако, как признает Рашид Халиди, этот сдвиг был либо не замечен в США и Израиле, либо неверно понят, поскольку там смотрели на факты — продолжающуюся вооруженную борьбу на местах и воинственный тон новых резолюций Палестинского национального совета (ПНС) — и приходили к неутешительным выводам о намерениях палестинцев. Это подводит нас к последнему пункту в нашем списке неразрешенных основных противоречий, омрачающих оспариваемую историю Израиля и Палестины: каковы истинные намерения палестинцев и ООП — ликвидировать еврейское государство Израиль и заменить его арабским государством Палестина? Или же создать на части исторической Палестины палестинское арабское государство, которое будет сосуществовать с израильским еврейским государством?
Годами споры на этот счет в основном велись вокруг резолюции № 2 из Политической программы ПНС, принятой в Каире 9 июня 1974 г.: «ООП будет использовать все средства, и в первую очередь вооруженную борьбу, для освобождения территории Палестины и установления независимой сражающейся национальной власти народа на каждой освобожденной пяди палестинской земли» [355]. Многие комментаторы интерпретировали этот последний оборот как знак готовности ООП принять образование мини-государства на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа по соседству с Израилем — то есть как согласие на двухгосударственное решение, на нечто меньшее, чем полное освобождение всей Палестины. Упоминание использования «всех средств» воспринималось как намек на отступление от бескомпромиссной цели уничтожения сионизма методами исключительно вооруженной борьбы.
Сегодня многие авторы некритично описывают этот момент как однозначное изменение политики ООП [356]. Однако в то время реальность перемен была вовсе не очевидна, более того, она горячо оспаривалась. Бывший глава израильской военной разведки Йехошафат Харкаби, который после 1978 г. резко откажется от своего категорически негативного понимания арабских намерений [357], тогда энергично доказывал, что приведенная выше формулировка есть не более чем ловкий обман, скрывающий неизменную цель ООП — освобождение всей Палестины. А если палестинцам не удастся сразу освободить ее всю, они будут делать это «поэтапно», начиная с любых фрагментов территории, полученных в результате вооруженной борьбы или переговоров [358]. Те, кто был согласен с такой интерпретацией намерений палестинцев, указывали на непрекращающиеся теракты, вдохновленные или организованные ООП или ее дочерними группировками и направленные против израильтян и евреев по всему миру. Они также цитировали Национальную хартию 1968 г. и подчеркивали бескомпромиссный характер ее целей, сформулированных, в частности, в статье 21: «Арабский палестинский народ, выражая себя через вооруженную палестинскую революцию, отвергает все решения, которые подменяют полное освобождение Палестины».
Язид Сайя не согласен ни с этой интерпретацией, ни с доводом, что резолюция 1974 г. маскировала стратегию поэтапного, но полного освобождения. В своем подробном исследовании истории движения он высоко оценивает дипломатическую гибкость ООП и ее «готовность менять свои цели и стратегию», но соглашается, что это «далеко не означало признания еврейского государства, не говоря уже о сосуществовании с ним». Тем не менее это предполагало «готовность вступить в непрямые переговоры и отложить полное освобождение Палестины, а то и полностью от него отказаться». Однако даже эта робкая дипломатическая уступка сопровождалась «демонстративными вооруженными атаками на Израиль» с целью «подчеркнуть способность ООП сорвать любую мирную инициативу, исключающую ее из процесса» [359].
Среди экспертов немало тех, кто, как и Сайя, уверен, что истинная цель палестинцев — сосуществование с Израилем. Воинственная риторика, говорят они, направлена главным образом на умиротворение воинствующих группировок. Они утверждают, что внимательный анализ внутрипалестинских дебатов демонстрирует постепенную эволюцию целей палестинцев в сторону примирения с Израилем. Этот прогресс выражается в трудноуловимых изменениях формулировок официальных резолюций, принимаемых на заседаниях Национального совета — палестинского парламента в изгнании [360]. К сожалению, такая двусмысленная правка формулировок не убеждает скептиков, и в итоге обе стороны и их группы поддержки увлекаются неубедительным синтаксическим разбором и вязнут в казуистике, пытаясь выявить истинный смысл резолюций ПНС [361].