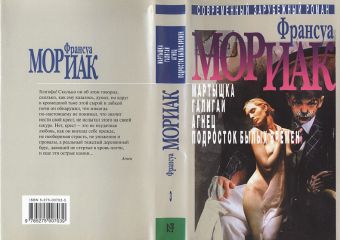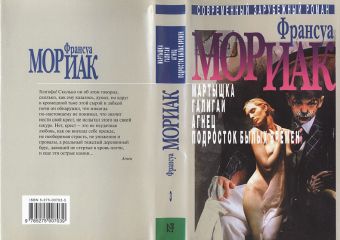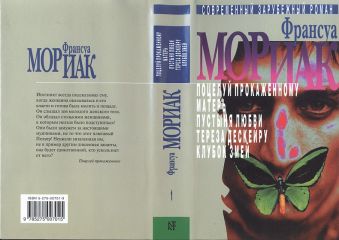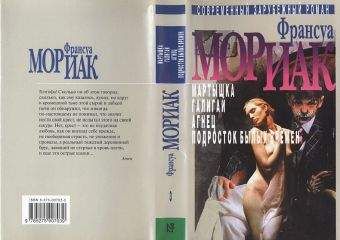Франсуа Мориак - He покоряться ночи... Художественная публицистика
Но я слишком много распространяюсь о внешней стороне моей жизни, которая совершенно чужда моей внутренней жизни. Цель этих мемуаров — обнажить тайные истоки моего творчества. Поэтому я вовсе не хочу кончать книгу изложением своих политических взглядов: у читателей может сложиться впечатление, что в моей жизни не было ничего важнее политики, — на самом же деле если она и остается последним звеном, связывающим меня с сегодняшним миром, если мне и правда ничто не кажется более достойным восхищения и любви, чем судьба одиночки, который вот уже четверть века берет на себя ответственность за судьбу Франции, несмотря на яростное, но неизменно подавляемое сопротивление, то все это не мешает мне трезво, без иллюзий оценивать будущее нынешнего великого царства и, как и прежде, не верить, что политика может принести счастье. Тем более что близость вечности сводит на нет суету на поверхности планеты. О чем же я тревожусь? Не пройдет и ста лет, как все человечки-муравьи, живущие в 1965 году, исчезнут с лица земли. А я все это время буду постепенно меркнуть уже после того, как усну, потому что имя мое будет заново угасать всякий раз, как один из тех, кто меня знали, восхищались, любили, ненавидели, будет испускать последний вздох. А потом и последний, кто помнил обо мне, покинет этот мир. Но даже если несколько приверженцев стали бы передавать мое имя из поколения в поколение, как вот уже сто двадцать пять лет почитатели Герена передают друг другу имена Эжени и Мориса, если бы памяти обо мне суждено было жить вечно и я был бы в этом уверен, это ничуть не поддержало и не утешил;) бы меня, потому что для того, кто ждет подлинного бессмертия, бессмертие в памяти людской — лишь насмешка.
Он ждет его, верит в него; он верит в него всем сердцем, изо всех сил. Любовь к богу естественна для него, единосущна с ним, но это бог, страдающий во плоти, ибо и у бога сердце смертного. Вера в вечную жизнь есть нечто, не доступное уму, и я настороженно отношусь ко всем своим прежним представлениям о загробном существовании. Я просто-напросто запрещаю себе об этом думать.
Я верю в Того, кого люблю. Я люблю не себя. Нет, я любил не себя и не свою жизнь, беглым обзором которой я заканчиваю свою книгу. Сам себе я не нравлюсь; но я себя и не ненавижу; когда я чувствую по ночам, как у меня под рукой бьется неугомонное сердце, во мне шевелится чувство, похожее на жалость. Меня любили и ненавидели; кого было больше: тех, кто ненавидели, или тех, кто любили? Один бог знает.
Мои враги — это мои свидетели защиты. Как бы то ни было, у меня недаром были враги, ибо я был одним из немногих писателей своего поколения, едва ли не единственным, кто совершенно не считался в своих действиях с сильными мира сего, которых задевал. Одни убийцы (они не раз угрожали мне) покушаются на наше тело, другие же поднимают руку на плоть от плоти нашей и при этом ничем не рискуют, тогда как грабителям и насильникам всегда требуется некоторая смелость... Переносить все это мне помогает то соображение, что если сам я ни на кого не нападал первым, если сам я, смею думать, ни разу никого не оклеветал, ни разу не вломился в чужую жизнь, если борьба моя всегда была духовной в абсолютном смысле слова и если я чаще боролся за других, за другого, чем за себя, то не раз в пылу полемики я не мог отказать себе в удовольствии уязвить и унизить противника, и кое-какие из нанесенных мною ран не зажили, быть может, и по сей день. Пусть мысль эта поможет мне все принять и по возможности все простить.
Я заканчиваю второй том «Страниц моей внутренней жизни» во вторник 27 июля 1965 года у себя в кабинете в Вемаре (департамент Сена-и-Уаза). Погода плохая. На заре сквозь гул самолета, летевшего в небе, я услышал, как поет иволга — любимая птица Клода. Он, как и я, любит птиц не самих по себе, а как символ подлинной жизни. Исчезновение видов есть приговор сегодняшнему миру. До сих пор великий Пан не умирал *, он умирает сегодня.
Клод и Жан, Клер и Люс — боюсь, я нечасто упоминал о них в этих двух томах. Должен покаяться: я очень виноват перед ними. Я был молодым отцом и совсем не обращал внимания на эти крошечные существа, росшие рядом со мной; я взвалил все заботы на их мать, которая день и ночь отдавала им все свои силы. Конечно, я любил их и тревожился по поводу малейшего их недомогания. Но, глупый писатель, погруженный в книги и в самого себя, я не замечал чуда, которое свершалось у меня на глазах. Чего бы я ни отдал сегодня за то, чтобы ни на одну секунду не выпускать из виду моих маленьких внуков... Но где там! Против этой темы, темы отца, как и против многих других, я ставлю на полях корректурный знак «вычеркнуть»: все надо переписать заново. Но переписать невозможно: сочинение написано раз и навсегда и раз и навсегда оценено.
Сочинение, которое не надо путать с тем, которое я заканчиваю сегодня, а завтра отнесу издателю. Мне кажется, я не льстил себе на этих страницах, подозреваю даже, что многим не понравится выведенная здесь фигура, но я считаю ее близкой к истине. Впрочем, слово «близкий» указывает на расстояние, разделяющее два самостоятельных объекта. Как ни мало здесь расстояние между портретом и моделью — оно остается пропастью, через которую я не смог перекинуть мост. Так что хотя эта пачка моих снимков в разном возрасте, где все правда, все точно, но искажено взглядом художника, который инстинктивно исправляет, ретуширует не только то, что он написал, но и то, что прожил, — хотя эта пачка снимков, безусловно, лучше передает мою подлинную сущность, чем карикатуры, нарисованные досужими клеветниками, тем не менее эта книга не исчерпывает всей моей жизни. Да и как могла бы она ее исчерпать? Но в таком случае намного ли умолчание правдивее домыслов?
Впрочем, я полагаю, что главное обо мне, пусть даже оно не везде выражено словами, в этой книге сказано. Далеко не всегда мемуарист обходит какие-то вещи молчанием из осторожности или по тактическим соображениям: чаще всего дело в хорошем воспитании, в стыдливости, а главное — в невозможности до конца раскрыть другому свою душу. Даже при всем желании. Ведь мы всегда оглядываемся не иначе, как украдкой: в противном случае мы не могли бы идти вперед. Не то чтобы мы боялись взглянуть смерти в лицо: ибо разве мы не кончаем свою жизнь лицом к лицу с ней? Но вот прожитую нами жизнь увидеть вновь не удается. Я повторяю: мы оглядываемся назад только исподтишка. Если бы мы шли по жизни задом наперед, беспомощно глядя в прошлое, мы превратились бы в соляной столб, а точнее, как написал однажды Жан Кокто, в столб из слез *.
Мадлен Шапсаль. ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ
ФРАНСУА МОРИАК
— Как у вас появилась мысль написать «Страницы моей внутренней жизни»?
Франсуа Мориак. — Я заметил, что сборники статей, даже так называемых хороших статей, над которыми изрядно потрудились их авторы, не нравятся читателям. Поэтому мне захотелось, чтобы статьи в «Фигаро литерер» как-то были связаны меж собою и стали главами одного повествования. Так вот, я нашел связующую нить: это я сам, моя жизнь.
С тех пор я непрерывно держал в уме то, что сводило воедино все мои размышления над прочитанным.
— Книга очень понравилась.
Ф. М. — Судя по письмам, которые я получаю, ею заинтересовался достаточно широкий круг читателей, и заинтересовался всерьез. Эта книга нашла отклик у самых разных людей, не только у одних интеллектуалов.
— Вам известно, кто ее читатели?
Ф. М. — Не скажу, чтобы она не понравилась писателям или интеллектуалам. Пожалуй, никогда еще критики не были столь единодушны... Но трогает меня другое: книга, где речь идет о Бенжамене Констане, Расине и Андре Жиде, интересна массовому читателю, и особенно читательницам. Их письма меня поражают. В такие минуты писатель вдруг сознает — хотелось бы избежать высоких слов, — что он вправду помогает и просвещает. Для меня сейчас это очень важно. Несмотря на сложность содержания, общий тон книги таков, что ее поняли и ей поверили. И это тем более удивительно, что писатели, о которых я веду разговор, известны немногим: Бенжамен Констан, Эмили Бронте * или Ньюмен *...
Впервые в жизни я почувствовал, что могу привлечь многих людей книгой, написанной не в жанре романа.
— А сами вы читаете романы?
Ф. М. — Очень редко. Старость — я убеждаюсь в этом каждый день — душит во мне живые образы. Я был страстным, можно сказать, ненасытным читателем, но теперь... Когда я был молод, мое собственное будущее, каким оно рисовалось мне в мечтах, создавало для госпожи Бовари, Анны Карениной, героев Бальзака ту атмосферу, в которой все они оживали. В них воплощалось для меня все о чем я мечтал, моя судьба была предопределена их судьбой. Когда я стал старше, они окружили меня, словно соперники. Это своеобразное соперничество принуждало соразмерять себя с ними, особенно с героями Бальзака; теперь они стали частью прошлого.