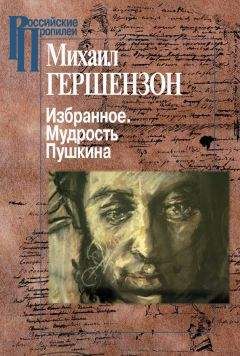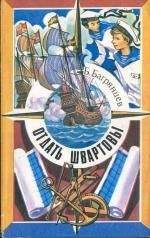Наталья Гершензон-Чегодаева - Первые шаги жизненного пути
Мы с Сережей очень сильно тосковали о России, а о колонии особенно. Что касается меня, то я была исполнена самых патриотических чувств. Немцы в массе мне не нравились, казались толстокожими, туповатыми и сентиментальными. Помню, как с юношеской ригористичностью я говорила, что в последнем русском человеке — даже преступнике — больше содержится божеского начала, чем в любом, самом лучшем немце.
Мама наслаждалась физическим отдыхом и относительным душевным покоем. Зато папа, по-видимому, сильно тосковал и тяготился вынужденным творческим бездельем. Не помню, чтобы он говорил об этом при нас (может быть, только наедине с мамой). Я узнала о его душев-ном состоянии тех дней почти через 40 лет, когда получила оттиск от одного американского русского журнала, в котором были опубликованы папины письма к В.Ф.Ходасевичу. 5–6 писем было послано из Баденвейлера. Привожу несколько выдержек из этих писем.
"…Наконец собрался написать Вам. Собираюсь с самого приезда, да все недосуг: то звонок к обеду — и табльдот в целый час с мертвыми антрактами, то лежать надо, в пальто, с открытым окном и т. д.; передохнуть некогда; разве только газету за день почитаешь. Не шутя говорю: очень скучно, а свободного часа нет. Я уж так и отдался: лечиться так лечиться. Показывался я медицине и в Берлине, и здесь: говорят, процесс в легком и большое истощение, следовательно, много есть, быть на воздухе, лежать и ничего не трудиться. Мы здесь, кажется, уже немного поправились. Пансион изрядный, кормят хорошо, и сравнительно недорого" (12 ноября 1922 года).
"За месяц я так преуспел, что у меня в голове ни одной путной мысли не было и нет. А чувство России у меня вот какое: как сел кто, спасшись от кораблекрушения, уже согревшись и насытившись, сидит в безопасности и слышит вдали грозный шум все еще бурного далекого моря, — так я помню Москву и думаю о тех, кто и теперь еще там, на море. Есть ли у Вас это чувство? У меня собственно два чувства: одно касается беспримерно-великого дела наших дней, — я не о нем здесь говорю; другое — личное, которым я и болен. Когда растение растет, может быть каждому волокну больно вытягиваться; так и мы теперь. Я чудовищно-много вырос в эти годы; теперь пересадил себя с открытого воздуха в комнату, чтобы некоторое время отдохнуть от роста; и вот, действительно, глупею" (26 ноября 1922 года).
"Я не писал Вам столько времени, потому что не знал, где Вы, не думал, что Вы все еще в Сарове. Потом у нас дочка была больна, мокрым плевритом; пролежала месяц. Это все еще русское наследство. И я никак не поправлюсь; в легких не лучше, тот же кашель, та же слабость. Доктор говорит, что мне нужно год прожить в тепле и бездействии, а я едва растяну свои деньги до апреля, в апреле надо возвращаться. Разумеется, ничего не пишу, только читаю… Напишите о себе, как живете, чем заняты… Я очень соскучился о людях, охотно съездил бы на неделю в Берлин. Здесь вторую неделю лежит снег и холодно, сегодня начало таять. Еще раз спасибо Вам за радость Ваших грустных стихов. Они, правда, очень грустны" (27 января 1923 года).
"Я так отрезан здесь от всего литературного, что с трудом верится, что когда-то писал, печатал. Может, оттого и не пишется. Но это ничего, даже полезно; я теперь на весь мир идей и систем смотрю, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. Мне врач решительно не советует ехать по крайней мере раньше теплого времени, так что мы отложили отъезд до половины мая" (21 марта 1923 года).
Я помню папу как человека нетерпеливого и довольно мнительного относительно собствен-ного здоровья. Но к туберкулезу своему, мне кажется, он относился сравнительно спокойно; впрочем, в Баденвейлере, где нам повседневно доводилось встречаться с тяжелыми чахоточны-ми больными, естественно, у него возникали поводы к неприятным ассоциациям. В особенности вспоминается мне один случай.
Некоторое время в нашем пансионе жил тяжело больной туберкулезом немецкий еврей лет 45, Якобсон. Папа с ним познакомился довольно близко, заходил к нему в комнату и много раз с ним беседовал. Потом этот человек из нашего пансиона куда-то переселился, кажется, — в туберкулезный санаторий. Вероятно, это произошло в связи с резким ухудшением его болезни. Раза два папа навещал его на новом месте и, возвращаясь от него, рассказывал о тяжелом состоянии больного.
Вскоре Якобсон скончался. Видно было, что папу потрясло это событие и что эту историю он пережил не только как трагический эпизод ухода из жизни знакомого человека, но и приме-нительно к самому себе, одержимому тем же недугом, от которого умер Якобсон.
С февраля начиная в Баденвейлере ощутимы стали веяния весны. Первыми расцвели крокусы вдоль теплых ручьев, протекавших в парке. Парк оживал; запевали птицы, набухали почки, а потом и бутоны на чудесных южных деревьях и кустарниках. Меня особенно поражали рододендроны и магнолии с их толстыми глянцевитыми листьями и бело-розовыми, словно восковыми цветами; потом зацвели каштаны, олеандры, глицинии, обвивавшие стены домов и вилл.
У нас было решение в апреле уехать из Баденвейлера в Берлин, чтобы оттуда возвратиться в Россию. Но перед этим папе захотелось показать нам красоты Швейцарии. Мы совершили чудесную незабываемую экскурсию на Боденское озеро, частично расположенное на территории Германии. Эту поездку я подробно описала в своих тогдашних записках.
Сборы и отъезд из Баденвейлера, так же, как и дорогу в Берлин, я не запомнила.
Берлинские встречи
В Берлине мы на этот раз остановились в хорошем пансионе. Папины письма к Ходасевичу напомнили мне о том, что папа просил его подыскать нам в Берлине помещение.
Ходасевич приготовил для нас две комнаты в том же пансионе, где сам в то время жил. Пансион этот помещался на 4-м или 5-м этаже большого дома на Викториа-Луизе-плац, круглой площади, от которой в две стороны прямыми стрелками отходила Моту-штрассе, Мы заняли в этом пансионе две небольшие смежные комнаты; вход в них был с площадки лестницы, отдель-но от всего пансиона, в который вела дверь, помещавшаяся на площадке напротив двери в наше помещение. Таким образом у нас получалась как бы отдельная квартирка.
Пансион этот был очень приятен; он носил совсем другой характер, чем пансион Эккерлин в Баденвейлере. Публика в нем жила не курортная, а деловая, находившаяся в Берлине в связи с различными обстоятельствами своего существования. Во время табльдотов, которые происходи-ли в общей столовой, по-семейному сходилось за одним длинным столом человек 20–25 разных национальностей. Помню даже какую-то пару: старую даму и мужчину португальцев из Бразилии. Были там и русские.
В.Ф.Ходасевич жил с молоденькой женой, как и он, поэтессой — Ниной Берберовой (с первой своей женой, театральной художницей, он разошелся; она осталась в России). За стеной нашей комнаты помещалась семья, глава которой, не старый еще человек, был тяжело болен почками. Он очень страдал, до нас часто доносились его стоны.
Мы приехали в Берлин с тем, чтобы, показавшись врачам, ехать дальше в Россию. Однако все сложилось совсем не так, как мы предполагали. Очередность событий я теперь уже не помню. Помню только, что врачи категорически запретили папе ехать в Россию, найдя, что за время его полугодового пребывания в Баденвейлере в его болезни не произошло улучшения. Русские берлинцы уговаривали папу вообще остаться за границей, как и они, перейдя в эмигра-цию. Родители наши не знали, что им предпринять, пребывали в смятенном состоянии. К тому же у папы деньги были на исходе, и приходилось изыскивать пути к их добыче, что, по-видимому, доставалось ему нелегко.
В таком томительно неопределенном положении мы прожили в Берлине целый месяц. Каждый день возникали разговоры: "Ехать? Не ехать? Возвращаться ли вообще в Россию?" Мы с Сережей страстно хотели ехать домой, не мысля себе возможности остаться навечно за границей.
Папа с мамой душою также хотели этого, но, по-видимому, тревожились разными деловы-ми соображениями, связанными с состоянием папиного и нашего здоровья, с трудностями и неустройством жизни в России.
Однажды папа обратился ко мне со словами:
— Скажи, ехать нам или не ехать. Только скажи, не думая, реши это не головой, а "животом".
Этот вопрос, характерный для папы, очень смутил меня. Я совсем растерялась и не знала, что сказать. Я не могла отделить своего душевного чувства от тех жизненно важных сообра-жений, которые служили повседневной темой обсуждения всех членов нашей семьи. "Живот"-то мой знал, чего хотел, а головой я мучилась мыслями о папиной болезни и обо всем остальном, что смущало родителей. Так из моего ответа ничего не вышло.
Берлин, несмотря на свою импозантность, мне не нравился, из-за присущей ему холодности и однообразия.
Мне казалось скучным, что большинство улиц похожи одна на другую, что все они — прямые и обстроены одинаковыми серыми пятиэтажными домами. Но все же огромный город, шумный, с разноязычной толпой, двигавшейся по тротуарам, со множеством несущихся машин и пролеток, давал богатую пищу юношескому воображению. Особое мое внимание привлекали многочисленные рестораны и кафе, из которых сквозь раскрытые окна и двери на улицу вырыва-лись громкие звуки входившей тогда в моду джазовой музыки, а также то и дело попадавшиеся повсюду фигурки русских эмигрантов. Русская речь слышалась беспрестанно — на улицах, в магазинах, ресторанах, трамваях, автобусах.