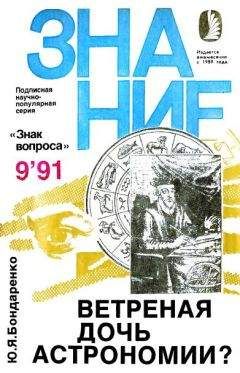Лев Рубинштейн - Причинное время
— коммунист, оказавшийся в компании антисоветчиков;
— гетеросексуал, случайно забредший в гей-клуб. Да мало ли кто еще!
Каждый человек есть представитель меньшинства. Просто он об этом вспоминает лишь тогда, когда вдруг ощущает на себе дискриминацию со стороны большинства. И начинает вспоминать о своих правах. А следующий важный шаг — то есть помнить о правах других — требует уже дополнительных усилий.
Понятия “большинство” и “меньшинство” находятся между собой в непростых отношениях и не всегда измеряются в процентах.
Не так давно я получил такой комментарий к одному из своих текстов, где речь шла о пресловутых “оскорблениях чувств”:
Если вдуматься, запрет на оскорбление чувств верующих идеально вписывается в концепцию политкорректности. Верующие, во всяком случае православные, — меньшинство (по всем опросам, в храмы регулярно ходит никак не более 5 % населения), в недавнем прошлом подвергавшееся страшному террору, в том числе массовому физическому уничтожению. По всем правилам политкорректности православные должны быть объектом позитивной дискриминации — находиться под особой защитой общества и государства, иметь разнообразные преимущества, должны быть выведены из-под критики, любое неприязненное, неуважительное высказывание в их (наш) адрес должно иметь серьезные негативные последствия для говорящего (выкидывание из приличного общества, крах карьеры), ну, и далее по списку. Так что люди, считающие недопустимыми сексистские или расистские высказывания, должны обеими руками поддерживать запрет на оскорбление чувств верующих. Если, конечно, есть стремление к элементарной честности перед самим собой.
И вот что я ответил:
Формально вы вроде бы все верно говорите. Верующие на самом деле составляют меньшинство. Хотя многие из тех, кто выступает от их имени, утверждают, что они именно в БОЛЬШИНСТВЕ и именно на ЭТОМ основании считают себя вправе диктовать обществу правила поведения. Это одна сторона дела. Другая заключается в том, что если бы, например, представители ЛГБТ-сообщества или сообщества инвалидов при попустительстве и при поддержке государственных учреждений, в том числе и силовых, самовольно и безнаказанно устраивали бы погромы в концертных, театральных или выставочных залах, едва ли мое сочувствие было бы на их стороне. Не знаю, как ваше. Религиозное меньшинство я однозначно поддерживал в советские годы, когда это меньшинство находилось под реальным прессом государственной идеологии и государственной практики.
Что же касается “большинства” как субъекта социальной воли, то я могу сказать, что я большую часть своей жизни прожил в СССР, где, судя по плакатам, лозунгам и газетным кричалкам, не большинство даже, а весь без исключения советский народ горячо одобрял и поддерживал все что ни попадя. Да еще при этом испытывал “чувство глубокого удовлетворения”.
Ничего никто, разумеется, не одобрял и не поддерживал. Ну, допустим, кто-нибудь из завсегдатаев пивного ларька, или рьяный дружинник-комсомолец, или крикливая тетка из очереди за селедочными хвостами могли тебя огорошить сакральным вопросом: “Тебе что, советская власть не нравится?” Могли, да. И это вовсе не означало, что они сами были от нее так уж прямо без ума.
И среди этого нынешнего статистического большинства активных и убежденных любителей президента, а также призрачной, а оттого и особенно лакомой “империи”, войн “до победного конца” и расправ с “пятыми колоннами”, не так уж и много, я уверен. Во всяком случае ничуть не больше, чем тех, кто против.
А в остальном, слегка перефразируя популярную цитату, можно сказать: “Люди как люди. Вот только телевизионный вопрос их испортил”.
А о соцопросах, рейтингах, процентах и всенародных довериях и поддержках я вот что думаю.
Поддерживать, доверять и одобрять и сообщать о поддержке, доверии и одобрении — это совсем, мягко говоря, не одно и то же.
Здесь редко уважают начальство. Об уважении и даже любви говорят лишь тогда, когда боятся.
Страх вообще очень часто прикидывается уважением, любовью, восхищением.
Признаваться самому себе в страхе может лишь человек, склонный к повышенной рефлексии, а таких немного.
Так что если эта вся социология чем-то и интересна, если она и побуждает к размышлениям, то лишь к размышлениям не о том, почему доверяют, а о том, почему говорят, что доверяют.
Большинство, мне кажется, вовсе никого и ничего не поддерживает. Если оно, “Его Величество Большинство”, что-то и поддерживает, то одной рукой оно поддерживает собственные штаны, чтобы не свалились, а другой — шапку, чтобы не стянули прямо с головы.
Осторожно: метафора
Приходится с горечью признать: мы стремительно отвыкаем изумляться. А точнее — просто не успеваем. И это плохо, хотя и сказал когда-то один очень древний китаец, что “совершенномудрый не должен удивляться ничему, кроме смены времен года”. Нет, все равно это плохо. Удивляться надо.
В потоке новостей — одна другой фантастичней — мы откликаемся лишь на то, что резонирует с тем или иным из наших внутренних мотивов, что по ритму и тональности совпадает с какой-нибудь нашей внутренней неотвязной песней.
Так я рефлекторно встрепенулся, прочитав недавно, что некий официальный, специально назначенный для такого дела правозащитник высказался в том духе, что не надо, мол, так болезненно реагировать на грозненские интернет-картинки с оптическими прицелами и песьими клыками, потому что это никакие вовсе не прямые угрозы, как кому-то почему-то почудилось, а всего лишь, знаете ли, метафоры. Ну, типа, учитесь, ребята, отличать прямые смыслы от переносных. Что вы как дети, ей-богу! А еще считаете себя интеллигентными людьми. Вы про метафору, что ли, никогда не слышали?
Почему ж не слышали? Слышали.
Метафоры и их внезапные, не всегда даже и предусмотренные различными метафоротворцами материализации — одна из моих излюбленных тем. Я тоже люблю часто и увлеченно рассуждать о том, что именно умение различать прямые и переносные смыслы различных высказываний и жестов есть одна из основных черт цивилизованного человека. И, соответственно, наоборот.
Я тоже люблю говорить о том, что, например, искусство, что бы каждый из нас ни понимал под этим словом, в принципе не должно и не может оскорблять ничьих чувств именно потому, что оно метафорично. Именно потому, что художественный эффект строится в том числе и на мерцании прямых и переносных смыслов.
В общем-то эстет из Совета при президенте формально прав.
Да, мы окружены метафорами, и это правда. Да, того, кому придет в голову обвинить задерганную мамашу, говорящую шумливому и вертлявому ребенку: “Если немедленно не замолчишь, я тебя убью”, в том, что она угрожает жизни ребенка, мы в полном праве счесть либо просто дураком, либо бессовестным демагогом и при этом все равно дураком.
Да, неумение отличать переносные смыслы от прямых есть признак понятно чего.
И эти веселые картинки с ружьями и оскаленными песьими мордами можно, конечно, считать метафорами. Почему бы и нет?
Ну да, грубые, примитивные, тупые и злобные. Но ведь метафоры же!
А метафора и будет оставаться метафорой, пока вдруг не разметафоризируется.
Ну, а тогда и разговор другой! Как говорится, когда убьют, тогда и приходите.
Так, в разные времена и в разных государствах существовали до поры до времени такие популярные метафоры, как “Если враг не сдается, его уничтожают” или “Die Juden sind unser Unglück”. Потом, и даже очень скоро, они перестали быть такими уж метафорами. А до этого были, да.
И в наши дни существует множество подобных метафор. Ну, по принципу: “Мимо пятой я колонны без метафор не хожу. То винтовкою прицелюсь, то Тарзана покажу”.
Я, в общем-то, понимаю, что имел в виду казенный правозащитник. И я вполне ценю, что он по крайней мере знает, что такое метафора, хотя и употребляет этот термин на мой вкус чрезмерно расширительно.
Беда лишь в том, что творцы этих метафор едва ли знакомы с такими аристотелевыми тонкостями. Какие такие метафоры, если всё — проще некуда. Если понятно, что надо сначала попугать и показать клыки, а там уж — по обстоятельствам.
Пока люди, причастные к искусству, уже много лет занимаются определением и перемещением границ между территорией искусства и территорией реальной жизни, между метафорой и прямым действием, ребята, которые вообще не понимают, что эти границы существуют, которые не только не понимают, что такое метафора, но и слова-то такого не знают — даром что академики, — легко и непринужденно перемещаются туда-сюда сквозь эти границы, вроде как перелетные птицы или звери лесные, пребывающие в блаженном неведении о самом существовании каких бы то ни было границ.

![Александр Сергеев - Если ты умер[СИ]](/uploads/posts/books/263096/263096.jpg)