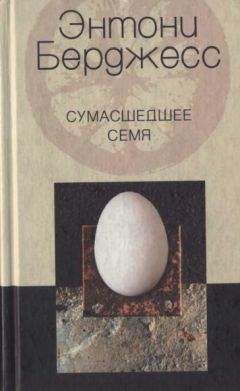Энтони Берджесс - Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса
— Кто-нибудь пытался связаться с моей сестрой? — спросил я, покрывшись пятнами стыда, меня начал бить озноб.
— Да как же, голубчик? Никто не нашел ни единого письмеца от ней в доме у вашего папы, да никто, вроде, и не знает, где она живет, кроме вашего папы, а он вообще никому никаких адресов не давал, кроме своего.
— Вы могли бы обратиться в полицию, чтобы они по радио объявили SOS, — сказал я. — Прошу вас, не поймите превратно, я не придираюсь. Я очень вам признателен, вы же знаете.
Он очень печально покачал головой.
— Никто нынче не слушает радио, голубчик. Одни телеки кругом. Хотя, неужто они не видели и не слышали вас по телеку? Тут каждая собака, кажись, вас видела. Ты видал его по телеку, а, Арнольд?
— Ага, — закивал старикан в замызганном саване.
— Ну, без разницы, — сказал Тед, — мы порешили на том, что быстрее до вас весточку дослать, в наше время расстояния ничего не значат уже. Я поразился, что ваша сестрица, видать, вообще вашему папе не писала.
— И от чего он умер?
— Сердце сплоховало, — сказал Тед. — Хотя теперь от этого все помирают. Но так написано в свидетельстве о смерти. Док Форсайт говорит, что папа ваш перегрузил желудок. Не надо было так-то, говорит. Слишком много людей, и черномазые те, что ничего не петрят в этом, хотели ему подсобить. Ну и подсобили, уж как подсобили! — зло сказал Тед. — Прямо под руки в чертов гроб и свели. Ведь именно там он теперь и будет. Я отдал ключ старине Джеки Старбруку. Он по похоронной части. А то с чего бы его прозвали Гробовщиком? — размышлял Тед вслух. — Смешно, я раньше об этом и не думал. А миссис Киу обмыла там, одела, все сделала.
— Я ваш должник.
— У меня тут списочек, сколько вы задолжали, — сказал как всегда практичный Тед. — Никогда бы не подумал, что эти телеграммы такие дорогущие, а еще телефонный звонок в аэропорт. Молодцом, что дали мне адрес, когда уезжали, этот черномазый верзила ни за что не дал бы. Он и не хотел, чтобы вы вернулись. Ой, говорит, он меня прикончит.
— Где он теперь?
— Где-то тут, наверно, — туманно ответил Тед, — он обхаживает, ну или пытается обхаживать женушку парняги, который с другой укатил. Он, кажись, сильно в нее втрескался, как я заметил, когда они тут были в позапрошлую субботу. Все кивал на то, что многие негры из Вест-Индии чуть ли не встречаются с белыми женщинами. И никому до этого дела нет в наше время. Мне его чуточку жаль все-таки. Они как дети малые, ей-богу.
— Я лучше пойду, — сказал я. — Надо бы подумать насчет похорон и поминального обеда или что там еще положено. Столько всего надо сделать.
— Мы можем устроить поминки здесь, — сказал Тед. — Почему бы и нет? У нас имеется ресторанная лицензия. По моим прикидкам, вам это обойдется по три и шесть на нос. Не могу обещать вам столько жареной рыбы, сколько мне хотелось бы, потому что ее потом не выветришь из дому. Но зато ветчинку — пожалуйста. Ветчинка, язычок, пирожки всякие. Бисквитики с кремом, если пожелаете. Ну и виски к чаю отдельно, конечно. Можете купить здесь несколько бутылочек.
— Но, — спросил я озадаченно, — кого мне позвать?
— Как кого? — удивился Тед. — Его приятелей. Мы же все были его приятелями, честное слово. И все это оценят. Ничто так не объединяет людей, как хорошие поминки.
Глава 17
В темно-бурой трапезной викарского жилища викарий возобновил обильный ланч, состоявший из холодного непрожаренного мяса с кровью и картофельного пюре с кровоточащими кусочками свеклы. Он со вздохом отпил пива, налитого из кувшина цвета бычьей крови. Предложил пива и мне. В углу скорчилась сумка с клюшками в ожидании послеобеденного гольфа. Он сказал:
— Нет нужды рассказывать вам, Денхэм, как я, черт побери, опечален новостью о вашем отце. Мне не дали повидаться с ним перед его смертью. Я даже и не знал о его чертовой смерти. Он наколол на вилку кровянистый свекольный ломтик, и глотнул его целиком, как устрицу. — Я перестал заезжать за ним перед гольфом, потому что индиец, которого вы поселили у своего отца, повел себя чертовски оскорбительно. А в церковь ваш отец никогда не ходил, будучи допотопным рационалистом, как вы знаете. Это все тот же суррогат веры. Но все равно он был чертовски хорошим человеком, — викарий решительно отрезал кусок мяса и вонзил в него свои крепкие, несмотря на пожилой возраст, зубы.
— Что значит «оскорбительно»? — спросил я.
На стене напротив меня, залитой елейным светом из окна, висела гравюра восемнадцатого века, изображавшая ухмыляющегося пастора, тискающего пухлых, грудастых шлюх. А у этого прожорливого горе-викария было чистое лицо праведника. Даже его аппетит напоминал акт отчаяния. Он тоже был жертвой современной Англии. Жадно сглотнув, викарий сказал:
— Он насмехался над христианской верой и доказывал якобы преимущества индуизма, представляете? Христианство, мол, не способно охватить мир растений и животных. Утверждал, что Церкви неведом смысл любви.
— Понимаю.
— Как бы там ни было, среда — подходящее время для погребальной церемонии. Благо у меня выдалась легкая неделя. Чертовски легкая неделя, — уточнил викарий.
— Я просто в толк не возьму, — сказал я. — Никогда бы не подумал, что мистер Радж способен на оскорбления. И он, насколько мне известно, не слишком-то ревностный приверженец индуизма.
— Он как-то слишком ревностно вел себя в отношении вашего отца, будто присвоил его. Я замечал это, когда заходил к ним, — последние два или три раза. Как будто он хотел, чтобы ваш отец всецело принадлежал ему одному. Но почему? У него что, своего отца нет?
Последняя крохотная кучка мяса, свеклы, пюре, окропленная остатками горчицы, исчезла. Викарий звякнул в колокольчик, стоявший возле кувшина с пивом.
— Его всю жизнь отечески направляли британцы, — сказал я, — очень долго. А теперь он хочет отплатить. Не отомстить, нет, а отплатить добром. Он просто хочет быть отцом. А вы стали у него на пути, поскольку вы для его спутанного сознания — тот, к кому обращаются Отче, что и делает вас отцом-соперником. Сойдет это за объяснение? Наверное, нет.
— Да я знаю все об этих чертовых эдиповых заморочках, — сказал викарий, подавляя отрыжку. — Чтобы занять место отца, надо сперва убить отца. А не превратить отца в сына. Это какая-то чертова бессмыслица. Просто мы с ним не сошлись, вот и все.
Вошла сдобная девица с открытым ртом, щеки у нее были пухлые, на голове кучерявился свежий перманент. Девица подала викарию пудинг и унесла дочиста вылизанную тарелку из-под мяса. «С полпудика груди и пудинг потом» — кто это написал, процитировал или сказал? Конечно же, Эверетт. И вот с ним-то я должен был увидеться днем. Викарий припорошил пудинг сахаром.
— Ну, значит, до среды, — сказал я. Спасибо вам большое. С кем вы теперь играете в гольф?
Викарий посмотрел на меня, не донеся до рта ложку с пудингом, и, к моему великому ужасу, глаза его наполнились слезами.
— Я один как перст почти все время, — сказал он. — И никого за все это время, ни души! Мы не нужны им в воскресенье, не нужны в понедельник. Мы им нужны только в дни их чертового рождения и чертовой смерти.
Он положил ложку на тарелку и отодвинул тарелку. Затем, передумав, снова притянул тарелку к себе и продолжил с аппетитом отчаяния поглощать пудинг.
— Они утверждают, что шпиль церкви мешает их проклятому телевизионному сигналу, — сказал он. И вытер глаза свободной рукой.
— До среды, — повторил я. — До свидания, — я поспешил убраться оттуда, услышав вдогонку:
— Мы вообще не нужны им, этим чертовым людишкам!
Эти викариевы слова нужно было срочно запить большим бокалом бренди, и я подался в паб при автостанции. Второй бренди я допить не успел — хозяин объявил отбой, я увидел, что прибывает автобус и выбежал на остановку.
Во хмелю, но не до головокружения, я восстанавливал в памяти обрывки моей прежней жизни с отцом, пока автобус ехал по Коркоран-стрит. За Коркоран-стрит следовала Маркхам-стрит. На Маркхам-стрит обреталась редакция «Вечернего Гермеса». У жвачной девицы я осведомился об Эверетте. Вскоре вышел мистер Эверетт.
— Слушаю вас, — произнес он так, словно я был ему незнаком, не приглашая войти.
— Я только хотел получить, — сказал я, — некоторую информацию. Адрес моей сестры в Танбридж-Уэллсе.
— О, это вы?
К нотному стану, приклеенному к лысине Эверетта, прибавилась загогулина на лбу, напоминающая нахмуренный альтовый ключ.
— У меня есть все основания недолюбливать вас, но сейчас я не могу об этом даже думать.
— Как Имогена?
— Вы имеете к этому какое-то отношение, да? Да? Постойте-ка. Вас здесь быть не должно. Вы должны быть в Японии. Япония, — сказал Эверетт и, к моему удивлению, принялся декламировать не то из самого себя, не то из Альфреда, Гарольда или Джона: