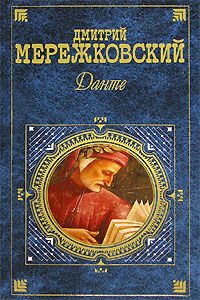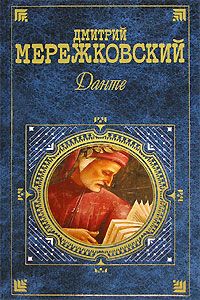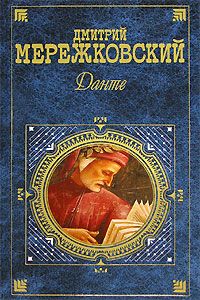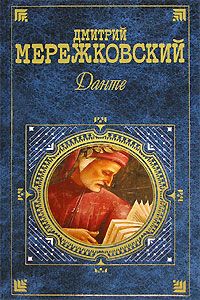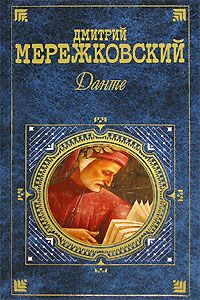Дмитрий Мережковский - Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского
Второй анекдот иллюстрирует тягу народа к декадентам:
Осенью 1906 года, во время второго севастопольского бунта, пришел ко мне беглый матрос черноморского флота… Тоже пришел поговорить о Боге, в Бога, однако, не верил: «Во имя Бога слишком много крови человеческой пролито — этого простить нельзя» (подчеркивание мое. — В. Б.). Верил в человека, который станет Богом, в сверхчеловека. Первобытно-невежественный, почти безграмотный, знал понаслышке Ницше и хорошо знал всех русских декадентов. Любил их, как друзей, как сообщников, не отделял себя от них. По словам его, целое маленькое общество севастопольских матросов и солдат, — большинство из них участвовало впоследствии в военных бунтах, — выписывало в течение нескольких лет «Мир Искусства», «Новый Путь», «Весы» — самые крайние декадентские журналы. Он долго пролежал в госпитале; казался и теперь больным: глаза с горячечным блеском, взор тупой и тяжелый, как у эпилептиков; говорил, как в бреду, торопливо и спутанно, коверкая иностранные слова, так что иногда трудно было понять. Но, насколько я понял, ему казалось, будто бы декаденты составляют что-то вроде тайного общества и что они обладают каким-то очень страшным, но действительным способом, «секретом» или «магией» — он употреблял именно эти слова, — для того, чтобы «сразу все перевернуть» и сделать человека Богом. Сколько я не убеждал его, что ничего подобного нет, он не верил мне и стоял на своем, что секрет есть, но мы не хотим сказать.
Г-н Мережковский сильно налегает на «первобытное невежество», «безграмотность», «спутанность» мысли матроса А. и, по-видимому, именно этому обстоятельству склонен приписать его дикую фантазию, что декаденты обладают особым «секретом» или «магией». — Между тем тут дело вовсе не в «спутанности», а наоборот в цельности психики, в той последовательности мысли и чувства, которая так чужда «культурному» человеку. Что кружок революционно настроенных матросов и солдат увлекался декадентскими журналами, в этом нет ничего удивительного. Смелые, яркие слова о сверхчеловеке, о его абсолютной свободе от всяких внешних цепей и норм, естественно, увлекали черноморских революционеров. Но им, конечно, и в голову не приходило, что люди, достигшие этой «последней» свободы и воспевшие ее в таких красивых стихах, — что эти сверхлюди так же беспомощны перед сложившимися формами жизни, как и самые смиренномудрые обыватели. Они не заметили, что практический девиз «Весов»: «Поэт должен жить как все». А если и заметили эту назойливо повторявшуюся там фразу, то, конечно, истолковали ее иносказательно, заподозрили тут конспирацию.
Иного выхода с их стороны и быть не могло, — и вовсе не от малокультурности, а наоборот, от слишком серьезного отношения к культуре, к запросам пробудившегося сознания. В самом деле, даже они, севастопольские матросы, которые далеко еще не достигли «последней» свободы, а лишь еле-еле ощутили ее первое робкое дуновение, — даже они почувствовали повелительную необходимость немедленно же порвать с традиционными формами жизни, сделали ряд мощных попыток вырваться на вольную волю. И вдруг «сверхчеловек» уверяет, что никакого секрета у него нет, что пути к полной воле ему совершенно неизвестны, что единственный путь, который он смог проделать, — это «забиться в страшное подполье Достоевского». Этому невозможно поверить! «Значит время еще не пришло, и вы от людей таитесь», — говорит матрос А., уходя от Мережковского.
И когда он убедится, что декаденты давно сказали все, что могли, что ничего уже более не «таится» у них за душой, он тотчас же поймет, что с декадентами ему не по дороге. — Я, конечно, говорю не об индивидуальной судьбе матроса А. Г-жа Гиппиус рассказывает («Речь», № 23), что после декадентов он ходил искать правды к Толстому и тоже не нашел. Возможно, что он так и не найдет ничего или успокоится в недрах какой-нибудь секты. — Но матрос А. как символ тяги народной очевидно знаменует совсем не то, что хочет вложить в него Мережковский. Если даже согласиться с Мережковским, что линия развития интеллигенции, отправляясь от позитивизма Чичикова и Хлестакова, через декадентского человекобога приходит к апокалипсическому богочеловеку, то путь матроса А. только в средней точке, и притом совершенно случайно, соприкоснулся с этой линией. От богочеловека исторического христианства через сверхчеловека декадентов ведет этот путь… и приводит, надо думать, просто к человеку, к человеку, освобожденному от тех уходящих в «темную» и «теплую» глубь корней, которые придают его теперешней жизни полузоологический характер.
Г-н Мережковский и сам имел опыт слияния с народом. Это было
За Волгою, на Светлом озере, куда каждый год, на Иванову ночь, сходятся пешком из-за сотен верст тысячи «алчущих и жаждущих правды» говорить о вере и где, по преданию, находится «невидимый град Китеж»…
Мы говорили о кончине мира, о втором пришествии, об антихристе, о грядущей церкви Иоанновой.
— А что знаменуют семь рогов зверя?
— А что есть число 666?..
Первый раз в жизни мы чувствовали, как самые личные, тайные, одинокие мысли наши могли бы сделаться всеобщими, всенародными. Не только средний русский интеллигент, поклонник Максима Горького, но и такие русские европейцы, как Максим Ковалевский или Милюков, ничего не поняли бы в этих мыслях; а простые мужики и бабы понимали. Все, с чем шли мы к ним из глубины всемирной культуры, от Эсхила до Леонардо, от Платона до Ницше, было для них самое нужное не только в идеальном, но и в жизненном смысле, нужное для первой нужды, для «земли и воли», ибо «вся воля» надо «всею землею» есть для народа «новое небо над новой землею».
Не правда ли, какая трогательная картина! Г-н Мережковский принес простым мужикам и бабам «глубину всемирной культуры», т. е. точнее говоря, идею Иоанновой церкви, которая, по его мнению, есть венец этой культуры, а простые мужики и бабы тотчас же согласились, что их «первая нужда» в земле и воле, получить полное удовлетворение в тысячелетнем царстве, где будет «новое небо и новая земля». И в эту торжественную ночь, близ «невидимого града Китежа», иная постановка вопроса о земле и воле показалась бы, конечно, неуместной самим мужикам и бабам. Но ведь нельзя же сидеть у брегов Светлого озера вплоть до наступления тысячелетнего царства. Правда, царство это «стоит при дверях», — но вот уже скоро 2000 лет, как оно заняло эту преддверную позицию, и совершенно неизвестно, когда именно оно намерено, и намерено ли вообще, с нее сдвинуться. Поэтому, нимало не сомневаясь в том, что под новым небом вопрос о земле и воле будет разрешен вполне удовлетворительно, мы все-таки хотели бы знать, какое из предлагаемых его решений под этим небом и на этой земле правильно, с точки зрения Иоаннова христианства. На этот вопрос — а именно его поставил сам г-н Мережковский, пообещав «связать религию с реальной действительностью», как «самое нужное из всех человеческих дел» — мы не находим никакого ответа, ни малейшего намека на ответ, или хотя бы на возможность ответа в апокалипсических изысканиях г-на Мережковского…
В тяжелую годину русской истории, в годину нашествия двунадесяти языков, добрый русский барин Пьер Безухов также толковал Апокалипсис, также испытывал значение числа 666. Вечно недовольный мерзостью и пошлостью окружающей и своей жизни, мечтательно-бескорыстный, жаждущий высшей гармонии, Пьер решил, что именно ему надлежит совершить подвиг освобождения русского народа от власти «зверя». Но, конечно, такой подвиг он может выполнить не как «Пьер», воспитавшийся в Париже, восприявший «глубину культуры от Эсхила до Леонардо», — вернее, не только как Пьер, а, прежде всего, как русский, как носитель сущности русского духа. И Пьер вычисляет, подходит ли цифровое значение слов «русский Безухов» к апокалипсическому числу. Но, странное дело, он забыл, что буквы славяно-русского алфавита также имеют цифровое значение, он пишет свое имя по-французски, и, как оказывается, с самой маленькой ошибкой («l’russe Besuhof» вместо «le russe Besuhof»), оно вполне удовлетворяет апокалипсическому критерию.
Когда читаешь французскую книжку Мережковского о русской революции, о ее апокалипсическом смысле, о трогательном слиянии всемирной культуры и русской volonté mystique y врат незримого Китежа, то не можешь отделаться от мысли, что маленький апокалипсический эпизод с Пьером Безуховым имеет глубокое символическое значение, пророчественно предрекает судьбы христианства третьего завета.
С одной стороны, перед вами несомненный европеец. «Культура», «Леонардо» — в его устах не фраза. Никто лучше Мережковского не смог бы нарисовать жизненной трагедии Леонардо, этого великого провозвестника грядущей человеческой культуры, этого поистине «слишком раннего предтечи слишком медленной весны», слишком раннего даже для нашего времени. — Но, с другой стороны, самого духа Леонардо, самой «первоосновы» его творчества как будто и вовсе не видно в изображении Мережковского. Он смотрит на внешние проявления внутренней работы своего героя глазами ученика его, Бельтраффио. «Что это — Христос или антихрист?» — поминутно спрашивает он себя, и, если под гнетом этого безвыходного сомнения не кончает с собой, подобно Бельтраффио, то, кажется, только потому, что в итоге исследований Леонардо фигурирует обыкновенно «Первый Двигатель», «Primo Motore». Но верно ли, что этот «Motore» для самого Леонардо играл такую крупную роль? А что, если бы Леонардо да Винчи написал не с большой, а с маленькой буквы, и не в мужском, а в среднем роде — вместо «Primo Motore» — «primum movens»? Не повесился ли бы тогда и г-н Мережковский? Ведь от такой перемены Леонардо не превратился бы в «пошляка», в Хлестакова или Чичикова, все величавое обаяние его духовного облика сохранилось бы и тогда, а между тем он стал бы несомненным «антихристом» уже не только для Бельтраффио, но и для Мережковского.