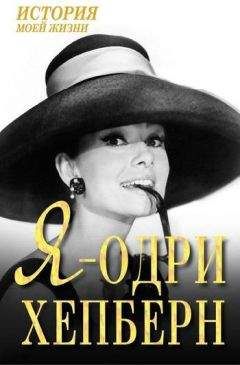Марина Цветаева - Статьи, эссе
Второго, а по существу первого и единственного вопроса:
об отношении к Богу того и другого, Бога к тому и другому, я сейчас намеренно не подымаю. В свой час.
В разные устья, из разных истоков, разные в источниках, из которых пьют, в жаждущих, которых поят — зачем перечислять? — не: разные во всем, а люди разных измерений, они равны только в одном: силе. В силе творческого дара и отдачи. Следовательно, и в силе, по нас, удара.
Маяковский наш силомер. Пастернак наш глубино-мер: лот.
Но есть у этих двух, связанных только одной наличностью — силы, и одно общее отсутствие: объединяющий их пробел песни. Маяковский на песню неспособен, потому что сплошь мажорен, ударен и громогласен. Так шутки шутят («не гораздо хорошие») и войсками командуют. Так не поют. Пастернак на песню не способен, потому что перегружен, перенасыщен и, главное, единоличен. В Пастернаке песне нету места, Маяковскому самому не место в песне. Поэтому блоковско-есенинское место до сих пор в России «вакантно». Певучее начало России, расструенное по небольшим и недолговечным ручейкам, должно обрести единое русло, единое горло.
Для того чтобы быть народным поэтом, нужно дать целому народу через тебя петь. Для этого мало быть всем, нужно быть всеми, то есть именно тем, чем не может быть Пастернак. Целым и только данным, данным, но зато целым народом — тем, чем не хочет быть Маяковский: глашатай одного класса, творец пролетарского эпоса.
Ни боец (Маяковский), ни прозорливец (Пастернак) песен не слагают.
Для песни нужен тот, кто наверное уже в России родился и где-нибудь, под великий российский шумок, растет. Будем жить.
___________
…Ты спал, постлав постель на сплетне,
Спал и, оттрепетав, был тих.
Красивый, двадцатидвухлетний,
Как предсказал твой тетраптих.
Ты спал, прижав к подушке щеку,
Спал со всех ног, со всех лодыг,
Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых.
Ты в них врезался тем заметней,
Что их одним прыжком достиг.
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорье трусов и трусих.
Пастернак — Маяковскому
Kламар, декабрь 1932.
ПОЭТЫ С ИСТОРИЕЙ И ПОЭТЫ БЕЗ ИСТОРИИ
Никто еще дважды не ступал в одну и ту же реку.
ГераклитВосходит солнце, и заходит солнце,
и спешит к месту своему, где оно восходит.
Идет ветер к югу, и переходит к северу,
и кружится, кружится на ходу своем,
и возвращается ветер на круги свои.
ПроповедникПередо мною лежит первое издание полного собрания стихотворений Пастернака в одной книге, этого, 1933 года. Почти пятьсот страниц мелким шрифтом. 1912–1932. Двадцать лет. Полтысячи страниц.
Вернемся назад на полстолетия, когда ни нас, ни нашего мира, ни самого Бориса Пастернака еще не существовало, и попытаемся угадать: каким может быть творчество поэта в течение двух десятилетий, из которых три года будут отданы мировой войне, еще три — гражданской, и еще двенадцать — строительству нового мира — и какому еще строительству! после какой разрухи! И лишь два первых года этих десятилетий будут принадлежать самому человеку, самому поэту, будто даны ему для того, чтоб научился дышать, чтобы вдохнул запас воздуха для всего, что последует дальше, когда он уже не сможет свободно, полной грудью лиры дышать. Каким же может стать лирическое двадцатилетие такого двадцатилетия исторического?
И такой же вопрос, с заменой «может быть» на «могло быть», поставим перед собой в конце протекающего пятидесятилетия, когда мы, современники Пастернака, и сам Пастернак, все наши исторические и личные судьбы будут видны как на ладони, когда мы войдем в область преданий и перестанем быть, мы — пройдем. Будущее как область преданий о нас и прошлое как область гаданий о нас (хотя иногда и кажется наоборот). Настоящее же — краткое и крохотное поле реальной деятельности.
Попробуем же с этой маленькой сцены настоящего ответить им — гаданию и преданию — и вам!
Борис Пастернак — поэт без развития. Он сразу начал с себя самого и никогда себе не изменял. Что вообще такое «я» поэта? Или шире, нет, пожалуй, — уже. Что такое языковое «я» поэта? Ведь словарь — не просто порядок слов. Сочетание «гоголевский период» мы узнаем прежде, чем уловим смысл каждого из этих двух слов.
Поэтическое «я» — это, по-видимому, «я» человеческое, проступающее в строе речи. Стихи часто являют нам нечто скрытое, приглушенное и совсем заглушенное, чего и сам-то человек в себе не знал. Он бы и не узнал это о себе, если бы не стихотворчество. Действие сил, неведомых действующему и осознаваемых лишь в самый момент действия. Здесь аналогия со сновидениями. Ведь если бы сновидения были управляемы (а это могут некоторые люди, особенно дети), то эта аналогия сновидений со стихотворчеством была бы полной. То, что в тебе скрыто и закопано, а в стихах открыто и выражено, — и есть твое поэтическое «я», сновидческое «я».
Другими словами, поэтическое я проступает как преданность души поэта особым снам, и это не воля его, а тайный источник всей его природы.
Я поэта есть я сновидца плюс я творца слова. Поэтическое я — это я мечтателя, пробужденное вдохновенной речью и в этой речи явленное.
Такова, в основе, личность поэта. Таков закон особости поэта. Поэтому все поэты столь схожи и столь несхожи. Схожи тем, что все без изъятья сновидят. Не схожи — своими снами.
___________
Все поэты делятся на поэтов с развитием и поэтов без развития. На поэтов, имеющих историю, и поэтов без неё.
Графические первые отображаются стрелой, пущенной в бесконечность, вторые — кругом. Первые (стрела) влекомы поступательным законом самооткрывания. Они открывают себя во всех явлениях, встречающихся на пути, в каждом новом шаге и каждой новой встрече.
Все коллизии: мое — чужое, насущное — лишнее, случайное — вечное, все для них пробный камень. Пробный камень их силы, растущей с каждым новым препятствием. Их самооткрывание, самопознание души идет через познание мира путем опыта. Они идут, а мы физически ощущаем движение воздуха, ими рассекаемого, свежий ветер.
Они не оборачиваются на своем пути. Их опыт накапливается будто сам собой и складывается позади, как своя ноша за спиной, которая никогда не давит на плечи. На такую ношу не оборачиваешься. Ходок не ведает о своем вещевом мешке до той поры, пока он ему не понадобится, — до привала. Гёте «Геца фон Берлихингена» и Гёте «Метаморфоз растений» даже не знакомы. Взяв от себя прежнего все, что ему понадобится, нынешний оставил его в дивных лесах молодой Германии времен собственной молодости и зашагал дальше. Если бы зрелый Гёте встретил на перекрестке времен молодого, он, возможно, не узнал бы его настолько, что захотел бы познакомиться с ним. Говорю не о Гёте-личности, а о Гёте-творце. И этот пример наиболее очевиден.
Поэты, имеющие историю, как и сама история, не отрекаются от себя, а просто не оборачиваются на себя, они движутся только вперед! Таков закон движения и проникновения.
Гёте Геца, Гёте Вертера, Гёте «Римских элегий», Гёте «Науки о красках» и т. д. — где он сам? Везде и нигде. Сколько их? Столько, сколько шагов. Каждый новый шаг делал новый пешеход. Выходил один, а приходил другой. Гете-творец поднимал ступню каждого пешехода. Он был их творческой мышцей. Как и Пушкин. А может быть, это и есть сущность гения?
Как одиноки такие пешеходы! В них ищут того, кого теперь не узнаешь. Полюбили — одного, а он сам от себя уже отрекся. Поверили — одному, а он сам себя уже перерос. От Гёте до его восьмидесяти трех лет (года смерти) требовали Геца (Гёте двадцатилетнего). Более близкий пример — от Блока Двенадцати все еще требуют Незнакомку!
Именно об этом — гениальные строки нашего русского гётеанца, поэта и философа Вячеслава Иванова, живущего теперь в Падуе:
Чье имя с крыш вострубите —
Укрылся под чужим.
Кого и ныне любите —
Уж ныне не любим.
Дело не в возрасте — все мы меняемся. Дело в том, что зрелый Гёте не понимал собственной молодости. Есть поэты, к которым новая молодость приходит в старости. Трилогия страсти Гёте написана семидесятилетним стариком! Все дело в новизне взгляда, во вновь открывающихся горизонтах, вслед за просторами преодоленными. Дело в несчетности мгновений, в бесконечности задач, в безмерности сил Колумба. А вещевой мешок за спиной (Гёте действительно ходил с мешком для камней и минералов) все полнее и полнее. И дорога ведет в бесконечность. Солнце садится и тени растут. Но нет предела ни силам, ни пути!