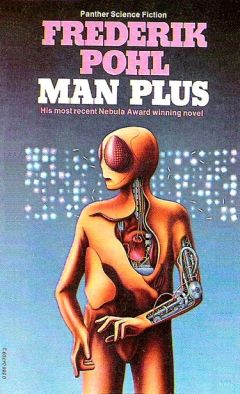Лев Аннинский - Русские плюс...
Моя судьба — Россия. Несчастье России — мой рок. Когда я вижу русскую землю, заросшую бурьяном, брошенную жителями, а жителей этих, побежавших в общежития городов, — толпами стоящих перед дверьми пустых магазинов, — о чем другом могу я думать? Именно здесь, на брошенной земле, — корень тех поражений, которые терпит Россия во всех сферах. О чем бы ни думал, это зияет в душе: там, где должен стоять на своей пашне русский человек, — там пустота, пустошь, пустырь; некому работать, некому жить. Здесь корень бед. Отсутствие корня.
Судьбу не выбирают. Русская судьба прибрала меня к рукам. Оглядываясь, я вижу, что произошло это в середине 80-х годов, и литовская фотошкола, делами которой я жил весь 1983 год, была последней крупной моей работой не нерусском материале. Только этот поворот не связан у меня с наступившей эпохой «гласности», но с более глубокими переменами. Человек сталинской закваски, я неплохо жил при Брежневе: это было «то же самое», но несравнимо мягче, либеральнее, вольготнее. И безнаказаннее. Судорожная попытка вырваться из трясины при Андропове заставила признать, во-первых, что мы в трясине по уши, и, во-вторых, что не в силах вырваться. Черненковский год был признанием полной внутренней капитуляции. Поэтому эйфория при начале горбачевской «перестройки» была у меня недолгой: я чувствовал кожей, в какой страшный кризис вошло русское бытие, и не строил никаких иллюзий. Но я не мог уже думать ни о чем другом, кроме как о причинах того горестного состояния, в котором оказался мой народ.
Было время — все к нам шли, хотели быть русскими, включиться в русскую культуру. Теперь — бегут. Не буду углубляться здесь в причины произошедшего, скажу только, что дело вовсе не в «революционной идеологии», занесенной к нам с Запада и исказившей, по мнению некоторых экспертов, голубиную душу русского народа. Дело, я думаю, в тектонических сдвигах геополитики, заставляющих нынешних русских людей бежать с той самой земли, за которую они и их отцы проливали кровь. Дело в самих этих войнах, в давлении окружающих народов на евразийский народ, отвечающий им с той же жестокостью. Если мыслить в категориях троичности, то было три удара: в начале века японский, а потом — два немецких (европейских, ибо не только немцы шли нас убивать). После первого немецкого удара вывернулась Россия наизнанку в революционной судороге и так спаслась. После второго… то есть после Второй мировой войны — вот сейчас мы начинаем переживать ее настоящие последствия. Рушится старое имперское сознание — и кончается русская страница в мировой истории, — та страница, в которую вписал свое Достоевский, русский гений, посланный нам литовцами, впрочем, белорусы считают его белорусом, а причина та, что шли тогда к нам «дети разных народов», чувствуя, что русскими буквами пишется мировая история.
Что станется с русской культурой при утрате ею мировой задачи, при конце ее всеотзывчивости, обернувшейся трагедией саморастраты? Кому мы нужны в качестве провинциально-национальной подробности? И нужны ли в таком качестве — самим себе?
Хотя, может быть, именно этот, единственно некатастрофический, путь нас и ожидает.
В этом случае у меня нет выбора: надо быть с теми, ОТ КОГО отшатываются. Гулять можно от счастливого народа, несчастному надо быть верным.
Прощайте, милые друзья, собратья, собеседники, товарищи по былой судьбе. Будьте счастливы!
ПОДПИСАНИЕ ПРИГОВОРА
В 1931 году молодой рабочий парень, сапожник из Калварии Юозас Жемайтайтис за распространение прокламаций получает от сметоновских властей десять лет тюрьмы.
Другой молодой парень, тоже уроженец Калварии, правда, не сапожник, а сын фабриканта, сочувствующий, однако, коммунистам, Янкель Йосаде, получает от коммунистов задание: каждый месяц собирать по десять литов и отдавать сестре Юозаса, чтобы та, купив на эти деньги продуктов, могла отвозить ему в каунасскую тюрьму передачу. Любопытно, что деньги эти Янкель собирает среди рабочих на фабрике своего отца.
В 1940 году в Литву входят советские войска. Евреи встречают их цветами. Юозас, не досидевший года, освобожден. Сестра встречает его у ворот тюрьмы. Отводит к Янкелю: «Вот твой спаситель».
Юозас живет у Янкеля несколько дней, потом получает от новых властей назначение — секретарем горкома партии в родную Калварию. А вскоре и приказ: составить список на депортацию.
Местный фабрикант, естественно, попадает в список.
14 июня 1940 года в шесть утра жена фабриканта в панике звонит сыну в Каунас:
— Янкель! Нас высылают в Сибирь! Спасай!
Янкель прыгает в такси, едет в родной городок, является в горком, проходит прямо к секретарю и глядит в глаза.
Юозас бледнеет:
— Но ведь тебя же я не трогаю.
— А мою семью: мать, отца, сестру… Что с ними будет в Сибири?
— Не знаю. Я ничего не могу сделать.
Тот поворачивается к выходу.
— Стой! — возвращает его Юозас. Приказывает всем выйти и, оставшись наедине, протягивает карандаш:
— Вон список на столе. Вычеркни их сам.
Янкель берет карандаш и вычеркивает.
Год спустя вся его семья, оставшаяся в Литве, погибает.
Выселенные в это время мучаются в Сибири. Потом уцелевшие возвращаются.
Среди тех, кто остался в Литве, уцелевших нет: из четверти миллиона литовских евреев (а это была полная самоуважения этническая группа, гордившаяся своей верностью ветхозаветной вере, не желавшая ассимилироваться подобно прочим евреям и даже именовавшая себя по-особому: литваки) — из четверти миллиона литваков, живших в Литве к 1939 году, в живых осталось — 25 тысяч. Да и те не в Литве уцелели, а в Шестнадцатой дивизии (наполовину из литваков состоявшей), да в той самой Сибири, куда их депортировали.
Юозас и Янкель — оба воевали в Шестнадцатой дивизии и оба остались живы. Юозас после войны какое-то время горел на партработе, потом был опущен в коммунальную службу и безвестно помер. Янкель стал журналистом, потом литературным критиком, потом драматургом, писателем. Литовским советским писателем. Из иудаизма он перешел в соцреализм. В конце сороковых годов, страха ради иудейска, сжег еврейскую часть своей библиотеки, сменил имя Янкель на Йокубас и стал писать по-литовски. Так он выжил, выдержал, выкарабкался — если не на вершины литературной славы, то на прочный профессиональный фундамент. Дожил до восьмидесяти четырех лет. Мучительно думая о смысле жизни, в последние годы искал понимающего собеседника и нашел — в лице московского литературоведа Евсея Цейтлина, который с распадом СССР переехал в независимую Литву и перешел в этой связи из соцреализма в иудаизм.
Книга Цейтлина «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти», выпущенная в Вильнюсе, — трагическая исповедь, записанная из уст человека, который ждет смерти как избавления от мук совести. Философский аспект этого репортажа о собственном умирании достоин отдельного разговора, в контекст которого надо будет включить толстовского Ивана Ильича, а также академика Павлова, Николая Островского и, пожалуй, того американского интеллектуала, который предложил всем желающим наблюдать его агонию по каналам Интернета.
Сейчас мне интересно другое. Прожитая долгая жизнь и ее итог.
Литовский советский писатель Йокубас Йосаде мало озабочен тем, что дюжина его пьес и несколько десятков или сотен статей, написанных в годы заведования отделом критики журнала «Пяргале», канут в небытие; его не трогает вопрос о том, одну или две строки посвятят ему историки литовской литературы советского периода. Но: какой смысл в его судьбе? Что заставило его «бежать из еврейского рая» и объявить себя литовцем? И еще раньше: что заставило взять тогда карандаш из рук секретаря горкома?
«В Сибири они, может быть, и выжили бы».
«Я подписал своей семье смертный приговор».
«Почему он протянул мне карандаш?»
Юозас — разве мог знать, что литваков будут убивать поголовно — в Девятом форту Каунаса, в Ковенском депо, в вильнюсском пригороде Панеряй?
А кто будет убивать — знал?
Бывшего фабриканта Йосаде, отца Янкеля, казнили не немцы. Его казнили «люди с белыми повязками». Не немцы начали уничтожение евреев после захвата Литвы летом 1941 года. Немцы, конечно, прикончили бы всех аккуратнейшим образом, но начали в тот момент не они; начали — с их попущения — литовцы. Местное население. «Народ».
Подождите. Во всяком народе хватает всякого: и того и другого. Убивали и в Сибири. Но там же и спасали (помните фильм «Долгая дорога в дюнах» — латышский вариант саги о депортированных — как сибирские бабы старались облегчить жизнь рижанкам, там загибавшимся, причем те бабы отлично понимали, что самим им ни при какой ситуации не светит в будущем никакого даже подобия рижского комфорта).
Страшно в Сибири. Страшно в России. Страшно под властью Сталина.
![Роман Терехов - Безымянный мир [начало]*](/uploads/posts/books/no-image.jpg)