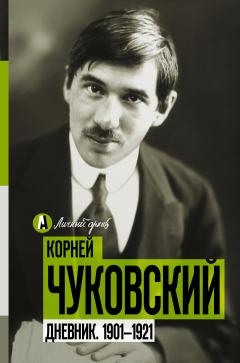Корней Чуковский - Дни моей жизни
12 августа. Никогда в жизни мне не было так грустно, как когда я ехал из Порхова — с Лидой — на линейке мельничихи — грустно до самоубийства. Мне казалось, что вот в Порхов и поехал молодым и веселым, а обратно еду — старик, выпитый, выжатый — такой же скучный, как то проклятое дерево, которое горчит за версту от Порхова. Серое, сухое — воплощение здешней тоски. Каждый дом в проклятой Слободе, казалось, был сделан из скуки — и все это превратилось в длинную тоску по Александру Блоку{27}. Я даже не думал о нем, но я чувствовал боль о нем — и просил Лиду учить вслух английские слова, чтобы хоть немного не плакать. Каждый дом, кривой, серый, говорил: «А Блока нету. И не надо Блока. Мне и без Блока отлично. Я и знать не хочу, что за Блок». И чувствовалось, что все эти сволочные дома и в самом деле сожрали его — т. е. не как фраза чувствовалась, а на самом деле: я увидел светлого, загорелого, прекрасного, а его давят домишки, где вши, клопы, огурцы, самогонка и — порховская, самогонная скука. Когда я выехал в поле, я не плакал о Блоке, но просто — все вокруг плакало о нем. И даже не о нем, а обо мне. «Вот едет старик, мертвый, задушенный — без ничего». Я думал о детях — и они показались мне скукой. Думал о литературе — и понял, что в литературе я ничто, фальшивый фигляр — не умеющий по-настоящему и слова сказать. Как будто с Блоком ушло какое-то очарование, какая-то подслащающая ложь — и все скелеты наружу. — Я вспомнил, как он загорал, благодатно, как загорают очень спокойные и прочные люди, какое у него было — при кажущейся окаменелости — восприимчивое и подвижное лицо — вечно было в еле заметном движении, зыблилось, втягивало в себя впечатления. В последнее время он не выносил Горького, Тихонова — и его лицо умирало в их присутствии, но если вдруг в толпе и толчее «Всемирной Литературы» появляется дорогой ему человек — ну хоть Зоргенфрей, хоть Книпович — лицо, почти не меняясь, всеми порами втягивало то, что ему было радостно. За три или четыре шага, прежде чем подать руку, он делал приветливые глаза — прежде чем поздороваться, и вместо привета просто констатировал ваше имя и отчество: «Корней Иванович», «Николай Степанович», произнося это имя как «здравствуйте». И по телефону 6 12 00. Бывало, позвонишь, и раздается, как из могилы, печальный и густой голос: «Я вас слушаю» (никогда не иначе. Всегда так). И потом: Корней Иваныч (опять констатирует). Странно, что я вспоминаю не события, а вот такую физиологию. Как он во время чтения своих стихов — (читал он всегда стоя, всегда без бумажки, ровно и печально) — чуть-чуть переступит с ноги на ногу и шагнет полшага назад; как он однажды, когда Любовь Дм. прочитала «Двенадцать» — и сидела в гостиной Дома Искусств, вошел к ней из залы с любящим и восхищенным лицом. Как лет 15 назад я видел его в игорном доме (были Иорданский и Ценский). Он сидел с женою О.Норвежского Поленькой Сас, играл с нею в лото, был пьян и возбужден; как на Васильевском острове он был на представлении пьесы Дымова «Слушай Израиль» и ушел с Чулковым, как у Вячеслава Иванова на Таврической, на крыше, он читал свою «Незнакомку», как он у Сологуба читал «Снежную Маску», как у Острогорского в «Образовании» читал «Над [черной] слякотью дороги». И эту обреченную походку — и всегдашнюю невольную величавость — даже когда забегал в Дом Литераторов перехватить стакан чаю или бутерброд — всю эту непередаваемую словами атмосферу Блока я вспомнил — и мне стало страшно, что этого нет. В могиле его голос, его почерк, его изумительная чистоплотность, его цветущие волосы, его знание латыни, немецкого языка, его маленькие изящные уши, его привычки, любви, «его декадентство», «его реализм», его морщины — все это под землей, в земле, земля.
Самое страшное было то, что с Блоком кончилась литература русская. Литература — это работа поколений, ни на минуту не прекращающаяся, — сложнейшее взаимоотношение всего печатного с неумирающей в течение столетий массой — и… (Фраза не дописана. — Е.Ч.)
В его жизни не было событий. «Ездил в Bad Nauheim». Он ничего не делал — только пел. Через него непрерывной струей шла какая-то бесконечная песня. Двадцать лет, с 98-го по 1918-й. И потом он остановился — и тотчас же стал умирать. Его песня была его жизнью. Кончилась песня, и кончился он.
6 декабря. Очень грущу, что так давно не писал: был в обычном вихре, черт знает как завертело меня. Вчера вышли сразу три мои книжонки о Некрасове{28} — в ужасно плюгавом виде. Сейчас держу корректуру «Книги о Блоке», которая (книга) кажется мне отвратительной. Вчера в оперном зале Народного Дома состоялся митинг, посвященный Некрасову по случаю столетия со дня его рождения. Я бежал с этого митинга в ужасе.
Дело было так: недели две назад ко мне подошел Евгеньев-Максимов и пригласил меня на заседание по основанию Некрасовского общества. Я с радостью согласился. Но на заседании выяснилось, что Максимов, председательствуя, так лебезил перед какими-то акушерками, которые представляли собою какие-то Губполитпросветы, так раскланивался перед властями, что было отвратительно слушать. На заседании был кроткий Осип Романович Белопольский — представитель Государственного издательства. «Он и к тому, и тем не пренебрег»[46]: «Честь и слава Госиздату, который издал к Некрасовским дням столько полезнейших книг!»
А между тем Госиздат не издал ничего, кроме брошюр самого Максимова{29} да дурацкого альбома Картавова. Изданное же этим издательством «Собрание стихотворений Некрасова» (под моей редакцией) гаже всего, что можно себе представить{30}. Меня возмутил тон Максимова, я уговаривал его, ради Некрасова, не столько раскланиваться с всевозможными акушерками вроде Лилиной. Ядвиги и т. д., сколько завести отношения с общественными организациями — Домом Литераторов, Домом Искусств и проч. Он горячо ухватился за эту мысль — и вот дней 5 назад было заседание в Губполитпросвете. Пришли: Иванов-Разумник, Волковыский и я. Максимов разводил турусы на колесах, утверждал, что все празднество будет в руках у Общества, что казенные люди из Губполитпросвета сами отдают все в руки Общества. Я долго торговался, чтобы афиша была сочинена в желательном для общественных организаций виде, — и что же оказалось? — о Боже! когда мы пришли в оперный зал Народного Дома — всюду был тот полицейский, казенный, вульгарный тон, который связан с комиссарами. Погода была ужасная, некрасовская. Мокрый снег яростно бил в лицо. В мокром пальто, в дырявых башмаках попал я в холодное, нетопленое помещение театра. Приходила детвора, все лет 10—12-ти, не старше. Пришел и Нестор Котляревский, в воротничке без галстуха, в шапке собачьего меха. Мы прошли в партер. Вдруг прибегает взволнованный Яковлев (кажется, так) и говорит, что приехал комиссар по просвещению Кузьмин, который и хочет председательствовать. Нестор пошел вместе со мною к Кузьмину и сказал: «Я выбран в качестве председателя. Теперь вы желаете председательствовать. Пожалуйста! мне здесь нечего делать».
— И мне! — сказал я. Мы надели шапки и ушли. В кучке большевиков, которые к тому времени сгрудились у гипсового бюста Некрасова, стоявшего на сцене, за занавесью, произошло совещание. Был какой-то очень красивый, молодой — который, должно быть, говорил: «Ну их к черту», и были другие, которые взывали к примирению. В числе этих последних был глава Госиздата Ионов, который бросился догонять нас — и сказал, что Ник. Ник. Кузьмин не будет председательствовать, а только откроет заседание и уйдет. Мы согласились на это. Но это была ловушка. Вдруг наехал целый сонм акушерок — и все уселись за красным столом — рядом с нами! Нас было мало: я, Котляревский да представительница Вольфилы{31}, — больше никого. Спели жидковатую славу, и председатель выпустил Максимова. Боже, что говорил этот человек. Он в шубе и шапке подошел к эстраде и, мощно двигая челюстями, стал истошным голосом кричать, что Некрасов был печальник народного горя, причем, цитируя стихи, придавал своему белужьему реву сентиментальную икоту. Было больно и страшно смотреть. Кончая, он вдруг сказал, что теперь V памятника Некрасова объединились представители народа и интеллигенции. Мне стало тошно. Я не пожелал сказать свое слово и ушел, бежал.
12 декабря. На днях объявилась еще одна родственница Некрасова — г-жа Чистякова. Ко мне прибежала внучка Еракова, Лидия Михайловна Давыдова, и сказала, что в Питере найдена ею «Луша», дочь Некрасова, с которой она вместе воспитывалась и т. д. И дала мне адрес: Николаевская, 65, кв. 9. Я пошел туда.
Мороз ужасный. Петербург дымится от мороза. Открыла мне маленькая горбоносая старушка, в куцавейке. Повела в большую, хорошо убранную, холодную комнату.
— Собственно, я не дочь Некрасова, а его сестра. Я дочь одной деревенской женщины и Некрасова-отца…