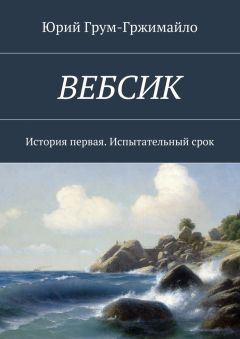Журнал Русская жизнь - Эмиграция (июль 2007)
- Вадим, посмотри сначала, что у них в меню. Синьор, плиз, меню!
Короткая пауза.
- Так. Итальянское… Тирамису, чизкейк, что еще? А! Во! Вадим! Спроси его про панна котту. Это не важно, что в меню нет. Панна котту надо взять. Мне Антон Табаков говорил, что это вообще лучший итальянский десерт. Он когда делал свое меню, то выбрал панна котту, потому что, говорит, она не тянет, легкая, воздушная, никакой тяжести, вечером самое оно. И не полнит. Панна котта форэва! Садимся! Садимся, да?
Звук отодвигаемых стульев.
- Ну что, Вадим, панна котта есть?
- Есть!
- Отлично! Берем панна котту. Сколько панна котт берем? Четыре? Три? Ты что будешь? Садись, Вадим.
- Сесть я успею, как говорится. Хе-хе. Но сначала хочу сделать объявление. Помните, мы ели с видом на собор этого, Святого Семейства, а теперь едим с видом на собор Санта-Кроче.
- А тут еще видели такой огромный зеленый собор, вообще огромный?
А вечером я заметил площадь, она воооот такусенькая, а называется - Цэнтрале. Хахахахахаха!
- Что ты смеешься? Ты подумай, этой площади сколько тысяч лет. И что тогда было. Города маленькие, вот такие, спальных районов не было и народу было вот столько.
- Да, и народу вот столько.
- А вот и наша панна котта!
Пауза. Стук приборов.
В этот момент к нему подходит официант. На плохом английском пытается принять заказ. И тут образованный человек вдруг понимает, как ему взять реванш. Он спрашивает знаменитое филе Россини, прекрасно зная, что его нет. «Si! - обрадованно кричит официант. - Gioachino Rossini! The grave is there!» - и тычет пальцем в направлении Santa Croce. У официанта блестят глаза - он рад, он счастлив, он уже поет арию Розины. У образованного человека лопается терпение, сдают нервы. Он оборачивается, чтобы крикнуть: «Посмотрите, вы только посмотрите на этого безграмотного остолопа! Как он жалок, как он смешон!» Но русских за соседним столиком уже нет- только пустые чашки и несъеденная панна котта.
* ХУДОЖЕСТВО *
Аркадий Ипполитов
Диссиденты Золотого века
Италия как одна из форм русского протеста
Во время пышных празднований двухсотлетия со дня рождения Карла Брюллова в 1999 году - когда вся лестница Музея Александра III была увита искусственным лавром, а вокруг «Последнего дня Помпеи» сооружен огромный балдахин синего бархата с вышитыми золотом лилиями, что придавало картине несколько альковный вид, - мой приятель поделился со мной воспоминанием детства, прошедшего в Харькове 60-х, городе большом и мрачном, как все большие советские города. В середине внушительного двора его детства, образованного пятью серыми пятиэтажными хрущобами, стояло бетонное сооружение, архитектурно мало чем, кроме размеров, отличавшееся от окружающих домов. Это была «мусорка», то есть место, куда жители окрестного арондисмана должны были сносить свои жизненные отходы и где производилась их сортировка, которой был занят специальный мусорщик, живший неподалеку. Там, над инсталляцией из баков, бачков, мешков и ведер, парила вырванная из «Огонька» репродукция «Итальянского полдня» Карла Павловича Брюллова. Полногрудая итальянка, отвернувшись от неприглядного настоящего, тянулась к сверкающей солнцем грозди, поводила черными глазами, белоснежное полное плечо вываливалось из рубашки, и сверкала, и благоухала, и звучала, прямо как «Санта Лючия» в исполнении Робертино Лоретти, лившаяся из раскрытых окон малогабаритной квартиры в летний двор позднего социализма, чья скука столь остро подчеркивается стуком костяшек домино, усталой матерщиной пьяного соседа и безнадежной желтизной одуванчиков, пробивающихся сквозь трещины асфальта.
Чудный, чудный «Итальянский полдень»! В воспоминаниях моего детства он тоже все время мелькает - то как украшение дощатого нужника на снимаемой в деревне даче, полного удивительной вони (сквозь широкие щели между досками открывался пейзаж с извилистой речкой, текущей под косогором, поросшим черемухой); то в кабине водителя сельского автобуса, облезлого, душного и вожделенного, ходившего два раза в день, утром и вечером, и соединявшего деревню с ближайшим магазином; то в прихожей перенаселенной коммуналки, перед общественным телефоном, прикрывая разрыв на очень нечистых обоях длинного коридора с кадушками, трехколесными велосипедами и расписанием дежурств по квартире. Как замечательно нежное и ровное сияние, распространяемое этим произведением, этот золотистый свет, не изображенный, не внешний, но внутренний, исходящий из самой картины, завораживающий и умасливающий самый злобный ум, снимающий возможность всякой критики. Сетовать на слащавость «Итальянского полдня» - все равно что усесться на июньском пляже в траурном шерстяном костюме и жаловаться на жару. Этот свет щедро окутывает практически все, что изображает Карл Павлович: светских львиц, неаполитанских лаццарони, несчастных королевских любовниц, счастливых ханских наложниц, доблестных офицеров русского морского флота, субтильных мифологических юношей и даже обреченных на гибель жителей Помпеи.
Упоительное сияние, щедро изливаемое художником на зрителя, - не просто салонная уловка, прием изощренного живописца, присвоившего рецепт, взятый из поваренной книги европейской художественной кухни. Золотистая мягкость брюлловского свечения - особая, отличающая его от многочисленных французов, голландцев, англичан, немцев и датчан, работавших с ним бок о бок в Риме и также наполнявших свои пейзажи, портреты и жанровые сцены ровным и благостным римским светом, светом выдуманной европейцами Италии. Во всяком случае, для русского разума, глаза и сердца она звучит по-другому, и сладость Брюллова слишком активна в своей перенасыщенности. В ней присутствует чуть ли не проповедническая назидательность, так что она больше напоминает сладость лекарства, чем сладость десерта. Не тирамису, а раствор глюкозы. Чего только стоит блеск лаковых туфель и бантики на портрете В. А. Корнилова на борту брига «Фемистокл»: перед изысканностью бравого матроса душа испытывает некоторое смущение, вздрагивает и начинает стыдливо томиться по чему-то далекому, ирреальному, ушедшему безвозвратно, но тем не менее несомненному, родному, невероятно драгоценному. Короче говоря, по русскому Золотому веку, времени мифическому, но России совершенно необходимому: надо же ей по чему-то тосковать в своей истории. Вот и тоскует уж второе столетие русский интеллигент по николаевской России.
Словосочетание «золотой век русской культуры» давно и прочно вошло в обиход. Так как русский менталитет словоцентричен, в первую очередь оно относится к литературе - к Пушкину и пушкинской плеяде, захватывая 20-30-е годы. Золотее Пушкина в отечественной словесности ничего нет и не будет, и появление Серебряного века лишь подчеркнуло полновесность золота пушкинской поры. Забавно, что время Tolstoy, Dostoevsky и Chekhov, представляющих куда более важные статьи нашего духовного экспорта, чем Пушкин и Баратынский, никто и не думает называть золотым, так как определение «золотой век» не обязательно означает творческое величие и интеллектуальное разнообразие. Разница века Татьяны Лариной и Анны Карениной разительна, и пропасть между ними не меньшая, чем между Татьяной и Эммой Бовари с ее поэтикой плесени, столь дорогой сердцу Флобера. Поведение Татьяны на петербургском приеме воистину мифологично, недаром она там затмевает «Клеопатру Невы», в то время как прелесть Анны Карениной на балу московском - всего лишь прелесть очень красивой смертной. Да и великие слова «Но я другому отдана; я буду век ему верна» могли быть произнесены только в мифологическое время. Обыкновенное время сплошь заселено дамами с собачками, и их отличие от Татьяны Лариной и есть отличие Золотого века от всей остальной истории России. Так что золото остается золотом, а Толстой, Чехов и Достоевский - это скорее «хлеб и сало».
Каков же наш Золотой век? Примерно обозначая царствование Александра I и раннего Николая, он открывается жужжанием прялки светского разговора в салоне Анны Павловны Шерер, продолжается в праздниках семьи Ростовых, это роскошные плечи Элен Безуховой, возвращение с победой, чепчики в воздух, лицейские годы, морозной пылью серебрится его бобровый воротник, beef-steak и страсбургский пирог шампанской облиты бутылкой, салоны Волконской и Смирновой-Россет, осень в усадьбе и дамы с соколовских акварелей с охренительными жемчугами. Лучшая архитектура, лучшие парки, лучшая мебель, балы и обеды, приемы и дуэли, стихи и красавицы, драгоценности и кавалергарды; русские дошли до Парижа, установив рекорд глубины своего проникновения в Европу. Первая треть XIX века представляется нам окруженной ровным и ясным светом. Каждый образ русского ампира, возникающий в нашей памяти, излучает внутренний блеск, будь то парадный дворцовый прием в зале, наполненном белыми платьями, расшитыми мундирами и сиянием грандиозных люстр, или скромный кабинет усадебного дома, освещенный лишь мерцающим на письменном столе светильником с фигурой весталки. Всеобщая гармония, великолепно описанная Герценом: «Разврат в России вообще не глубок, он больше дик и сален, шумен и груб, растрепан и бесстыден, чем глубок. Духовенство, запершись дома, пьянствует и обжирается с купечеством. Дворянство пьянствует на белом свете, играет напропалую в карты, дерется со слугами, развратничает с горничными, ведет дурно дела свои и еще хуже семейную жизнь. Чиновники делают то же, но грязнее, да сверх того подличают перед начальством и воруют по мелочи. Дворяне, собственно, меньше воруют, они открыто берут чужое, впрочем, где случится, похулы на руку не кладут».