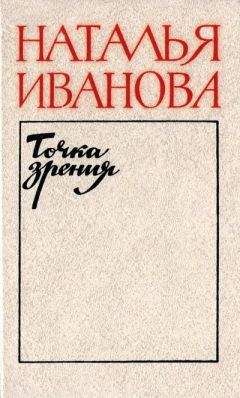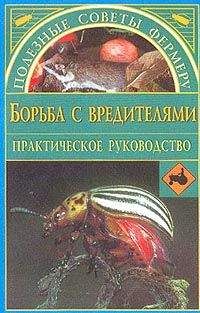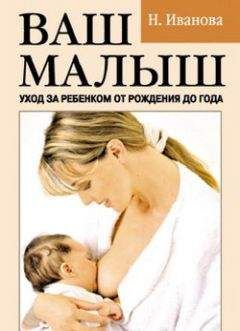Наталья Иванова - Ностальящее. Собрание наблюдений
темно…………………………………..золотые (небеса)
страшно бледный (Евгений)………….ярче роз(лица)
некрашеный (забор)…………………..голубой(пламень)
медный…………………………………синий (лед)
Конфликт проявляет победителя — он там, где центр, медь — «золото», но «ложное»; блеск подчеркнут «сияньем шапок медных». Казалось бы, такой северный, неяркий город — но при его поэтическом описании побеждает красочность, кажущаяся даже избыточной, привнесенной, сверхпафосной:
С пылающим небом слиясь, загорелося море,
И пурпур, и золото залили рощи и домы.
Шпиц тверди Петровой, возвышенной, вспыхнул над градом,
Как огненный столп, на лазури небесной играя.
Угас он; но пурпур на западном небе не гаснет;
Вот вечер, но сумрак за ним не слетает на землю;
Вот ночь, а светла синевою одетая дальность;
Без звезд и без месяца небо ночное сияет;
И пурпур заката сливается с златом востока;
Как будто денница за вечером следом выводит
Румяное утро.
В описании петербургского пейзажа Гнедичем — вопреки гасящей цвета северной реальности — присутствует вся палитра, весь спектр красок. Это же восприятие подтверждают и «Прощание с Петербургом» Петра Ершова, и «Заневский край» Владимира Бенедиктова, где город сравнивается с роскошной красавицей, любующейся собою перед зеркалом:
Ночь над Петрополем прозрачна и тепла;
С отливом пурпурным, недвижна и светла,
Нева красуется в своих гранитных рамах,
И так торжественно полна ее краса,
Что, кажется, небес хрустальных полоса
Отрезана, взята с каймой кровавой
И кинута к ногам столицы величавой.
«Бенедиктовщина», впрочем, проявляется здесь в нагромождении противоречащих друг другу, «кричащих» при таком соседстве цветов. «Кровавая» кайма с «хрустальной» полосой — это коктейль «кровавая Мэри»!
Поэт московский (хотя и рожденный в Петербурге) Николай Огарев в своем «петербургском» тексте видит город в совершенно ином цвете — монохромным, серо- черным: «тьма ночная», «было на душе темно», «седое небо», «сырая мгла». Несмотря на многолюдную толпу, что на Невском, поэт не выделяет ни одной краски даже «в огромной освещенной зале». Это не только «место», от которого исходит такое восприятие Петербурга (Москва). Это еще и время — с начала 40-х Петербург в поэтическом описании постепенно лишается светящихся красок.
И даже знаменитая петербургская «прозрачность», качественно позитивная характеристика Петербурга в поэзии — от Пушкина до Мандельштама, — под пером «московского» поэта Аполлона Григорьева становится болезненной:
Когда прозрачно все, мелькает предо мной
Рой отвратительных видений…
Пусть ночь ясна, как день, пусть тихо все вокруг,
Пусть все прозрачно и спокойно, —
В покое том затих на время злой недуг,
И то — прозрачность язвы гнойной.
У Тютчева — «купол золотой» Исакия, светящийся «во мгле морозного тумана», гасит вторая строфа:
Всходили робко облака
На небо зимнее, ночное,
Белела в мертвенном покое
Оледенелая река.
И, хотя тот же Тютчев в другом стихотворении называет невскую волну «пышноструйной», эпитеты цветовые почти отсутствуют: «Нет искр в небесной синеве, / Все стихло в бледном обаянье».
«Социально» и пейзажно тускл, мертвен, похож на грандиозное кладбище заснувший под «свинцовой тучей» город в стихах Некрасова. Краски — это «охрой окрашенный гроб» («Не лежала на нем золотая парча»). Все обманно «пышное» погружается во мглу:
Душный, стройный, угрюмый, гнилой,
Некрасив в эту пору наш город большой.
Как изношенный фат без румян…
Некрасов не просто не употребляет цветовые эпитеты — он настойчиво отрицает цвет: «Правда, я не видал, / Чтобы месяц свой рог золотой показал»; «не лазурны над ней (улицей. — Н.И.) небеса».
Но и у Некрасова, подробно регистрирующего городскую, как мы нынче говорим, «чернуху», все равно в текст прорывается «печать красоты»:
…зимой,
Словно весь посеребрянный,
пышен Петербург самобытной красой!
По каналам, что летом зловонны,
Блещет лед, ожидая коньков,
Серебром отливают колонны…
(«О погоде»)
Убогость и серость эпитетов главенствуют в стихах 70-80-х годов. Петербург противопоставляется красоте России (К. Фофанов, «Столица бредила в чаду своей тоски…»). Мрачность «шумной столицы» усугубляется в поэзии Федора Сологуба.
Постепенно к концу XIX века — началу XX социальной «грязи» в описании города становится меньше, однако метафизическое зло проявляется еще сильнее:
Сойдут глухие вечера,
Змей расклубится над домами.
В руке протянутой Петра
Запляшет факельное пламя.
Открыл окно. Какая хмурая
Столица в октябре!
Забитая лошадка бурая
Гуляет на дворе.
Но у того же Блока бессмертный синий утверждает свое непобедимое очарование в «Незнакомке». «Желтый пар петербургской зимы» у Иннокентия Анненского — знак зла, как и «желтый снег, облипающий плиты», и «Нева буро-желтого цвета».
Но вот уже в стихи Михаила Кузмина проникает «Зимнее солнце» — вместе с «засиявшей синевой» и «эмалью голубой», «стеклянно-алые облака», «вымпел золотой». У Мандельштама торжествует размытый желтый цвет:
Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель…
И все-таки тяжеломерное уныние побеждает как бы вырывающееся восклицание:
А над Невой — посольства полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина!
(«Петербургские строфы»)
Мандельштам упоенно эстетизирует Петербург, возвращая его к пушкинскому, «отмывая» его от наслоений «социальной» поэзии. В «Петербургских строфах» появляются даже два Евгения: Онегин -
Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
и Евгений из «Медного всадника» -
Самолюбивый, скромный пешеход,
Чудак Евгений, бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет.
Мандельштам славит «прозрачность», «темную зелень», «прозрачную весну» дореволюционного Петрополя.
«Желчь двуглавого орла» («Дворцовая площадь») у Мандельштама дополняется по контрасту и «булавками золотыми» звезд, и «тяжелым изумрудом» морской воды, и «светляками» автомобилей («Мне холодно. Прозрачная весна…» — 1916 год). В «Стихах о Петербурге» Ахматовой появляется «литое серебро»[43] Исакия, «месяц розовый» над Летним садом, — тревожно подчеркнутые «темноводной» Невой, «туманным», «темным» цветом города, где «сияющие льды» и «бессолнечные, мрачные сады» расположены в строках по соседству (1913,1915 гг.)
Изысканной колористикой отличаются петербургские стихи Георгия Иванова — «Поблекшим золотом, холодной синевой», «заката бледного» (1913), «небо, что сквозит / То синевой, то серебром»; «И все светлее тонкий шпиц / Над дымно-розовой Невой» (1915); «На серых волнах царственной реки / Все розовей серебряная пена» (1915); «На западе желтели облака… И сумрак розовый сгущался в синий».
Мария Моравская соединяет «лиловое» с «малиново-сизым», «дымное, бледное» с «белым», «старое серое» с «розоватым», с «радужно-сизым» («Белая ночь», 1916).
Возвращаемые Петербургу светящиеся, опаловые цвета оспаривает Василий Князев:
Небо — вечно в тумане,
Почва — вечно в мокроте;
Как в поганой лохани
На поганом болоте!
Мудрено ль, что над нами
Над гнильем Петрограда
В ясном небе повисла
Туча черного смрада?
(Из цикла «Проклятый город», 1914)
В отличие от него совсем не петербургский Иван Бунин промывает краски: «смуглым золотом Исакий / Смотрит дивно и темно», видит «красную пелерину» «на позументе золотом». У Марии Шкапской продолжается мотив петербургской «обманки», конфликта эпитетов города:
Призрачный и шумный и пустой,
Белой уподобленный невесте
С дымчатой измятою фатой.
(«О Петербурге», 1915)